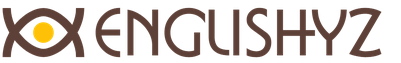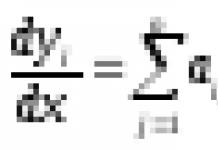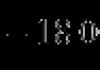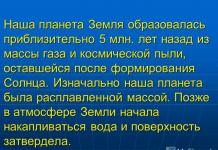Сэлинджер Джером
Джером Сэлинджер
Ты, брат, схлопочешь у меня волшебный день. А ну слезай сию минуту с саквояжа, - отозвался мистер Макардль. - Я ведь не шучу.
Он лежал на дальней от иллюминатора койке, возле прохода. Не то охнув, не то вздохнув, он с остервенением лягнул простыню, как будто прикосновение даже самой легкой материи к обожженной солнцем коже было ему невмоготу. Он лежал на спине, в одних пижамных штанах, с зажженной сигаретой в правой руке. Головой он упирался в стык между матрасом и спинкой, словно находя в этой нарочито неудобной позе особое наслаждение. Подушка и пепельница валялись на полу, в проходе, между его постелью и постелью миссис Макардль. Не поднимаясь, он протянул воспаленную правую руку и не глядя стряхнул пепел в направлении ночного столика.
И это октябрь, - сказал он в сердцах. - Что тут у них тогда в августе творится!
Он опять повернул голову к Тедди, и взгляд его не предвещал ничего хорошего.
Ну, вот что, - сказал он. - Долго я буду надрываться? Сейчас же слезай, слышишь]
Тедди взгромоздился на новехонький саквояж из воловьей кожи, чтобы было удобнее смотреть из раскрытого иллюминатора родительской каюты. На нем были немыслимо грязные белые полукеды на босу ногу, полосатые, слишком длинные шорты, которые к тому же отвисали сзади, застиранная тенниска с дыркой размером с десятд-центовую монетку на правом плече и неожиданно элегантный ремень из черной крокодиловой кожи. Оброс он так - особенно сзади, - как может обрасти только мальчишка, у которого не по возрасту большая голова держится на тоненькой шее.
Тедди, ты меня слышишь?
Не так уж сильно высунулся Тедди из иллюминатора, не то что мальчишки его возраста, готовые, того и гляди, вывалиться откуда-нибудь, - нет, он стоял обеими ногами на саквояже, правда, не очень устойчиво, и голова его была вся снаружи. Однако, как ни странно, он прекрасно слышал отцовский голос. Мистер Макардль был на главных ролях по меньшей мере в трех радиопрограммах Нью-Йорка, и среди дня можно было услышать его голос, голос третьеразрядного премьера-глубокий и полнозвучный, словно любующийся собой со стороны, готовый в любой момент перекрыть все прочие голоса, будь то мужские или даже детский. Когда голос его отдыхал от профессиональной нагрузки, он с удовольствием падал до бархатных низов и вибрировал, негромкий, но хорошо поставленный, с чисто театральной звучностью. Однако сейчас было самое время включить полную громкость.
Тедди! Ты слышишь меня, черт возьми?
Не меняя своей сторожевой стойки на саквояже, Тедди полуобернулся и вопросительно взглянул на отца светло-карими, удивительно чистыми глазами. Они вовсе не были огромными и слегка косили, особенно левый. Не то чтобы это казалось изъяном или было слишком заметно. Упомянуть об этом можно разве что вскользь, да и то лишь потому, что, глядя на них, вы бы всерьез и надолго задумались: а лучше ли было бы, в самом деле, будь они у него, скажем, без косинки, или глубже посажены, или темнее, или расставлены пошире. Как бы там ни было, в его лице сквозила неподдельная красота, но не столь очевидная, чтобы это бросалось в глаза.
Немедленно, слышишь, немедленно слезь с саквояжа, - сказал мистер Макардль. - Долго мне еще повторять?
И не думай слезать, радость моя, - подала голос миссис Макардль, у которой по утрам слегка закладывало нос. Веки у нее приоткрылись. - Пальцем не пошевели.
Она лежала на правом боку, спиной к мужу, и голова ее, покоившаяся на подушке, была обращена в сторону иллюминатора и стоявшего перед ним Тедди. Верхнюю простыню она обернула вокруг тела, по всей вероятности, обнаженного, укутавшись вся, с руками, до самого подбородка.
Оч-чень оригинально, - сказал мистер Макардль ровным и спокойным тоном, глядя жене в затылок. - Между прочим, он мне стоил двадцать два фунта. Я ведь прошу его как человека сойти, а ты ему - попрыгай, попрыгай. Это что? Шутка?
Если он лопнет под десятилетним мальчиком, а он еще весит на тринадцать фунтов меньше положенного, мо
жешь выкинуть этот мешок из моей каюты, - сказала миссис Макардль, не открывая глаз.
Моя бы воля, - сказал мистер Макардль, - я бы проломил тебе голову.
За чем же дело стало?
Мистер Макардль резко поднялся на одном локте и раздавил окурок о стеклянную поверхность ночного столика.
Не сегодня-завтра... - начал было он мрачно.
Не сегодня-завтра у тебя случится роковой, да, роковой инфаркт, томно сказала миссис Макардль. Она еще сильнее, с руками, закуталась в простыню. - Хоронить тебя будут скромно, но со вкусом, и все будут спрашивать, кто эта очаровательная женщина в красном платье, вон та, в первом ряду, которая кокетничает с органистом, и вся она такая...
Ах, как остроумно. Только не смешно, - сказал мистер Макардль, опять без сил откидываясь на спину.
Пока шел этот короткий обмен любезностями, Тедди отвернулся и снова высунулся в иллюминатор.
Сегодня ночью, в три тридцать две, мы встретили "Куин Мэри", она шла встречным курсом. Если это кого интересует, - сказал он неторопливо. - В чем я сильно сомневаюсь.
Так было написано на грифельной доске у вахтенного, того самого, которого презирает наша Пуппи.
Ты, брат, схлопочешь у меня "Куин Мэри"... Сию же минуту слезь с саквояжа, - сказал отец. Он повернулся к Тедди. - А ну, слезай! Сходил бы лучше постригся, что ли.
Он опять посмотрел жене в затылок.
Черт знает что, переросток какой-то.
У меня денег нету, - возразил Тедди. Он покрепче взялся за край иллюминатора и положил подбородок на пальцы. - Мама, помнишь человека, который ест за соседним столом. Не тот, худющий, а другой, за тем же столиком. Там, где наш официант ставит поднос.
Мм-ммм, - отозвалась миссис Макардль. - Тедди. Солнышко. Дай маме поспать хоть пять минут. Будь паинькой.
Погоди. Это интересно, - сказал Тедди, не поднимая подбородка и не сводя глаз с океана. - Он был в гимнастическом зале, когда Свен меня взвешивал. Он подошел ко мне и заговорил. Оказывается, он слышал мою последнюю запись. Не апрельскую. Майскую. Перед самым отъездом в Европу он был на одном вечере в Бостоне, и кто-то из гостей знал кого-то - он не сказал, кого - из лей-деккеровской группы, которая меня тестировала, - так вот, они достали мою последнюю запись и прокрутили ее на этом вечере. А тот человек сразу заинтересовался. Он друг профессора Бабкока. Видно, он и сам преподает. Он сказал, что провел все лето в Дублине, в Тринити колледж.
Вот как? - сказала миссис Макардль. - Они крутили ее на вечере?
Она полусонно смотрела на ноги Тедди.
Как будто так, - ответил Тедди. - Я стою на весах, а он Свену рассказывает про меня. Было довольно неловко.
А что тут неловкого?
Тедди помедлил.
Я сказал довольно неловко. Я уточнил свое ощущение.
Я, брат, тебя сейчас т а к уточню, если ты к чертовой матери не слезешь с саквояжа, - сказал мистер Макардль. Он только что прикурил новую сигарету. - Считаю до трех. Раз... черт подери... Два...
Который час? - спросила вдруг миссис Макардль, дядя на ноги Тедди. - Разве вам с Пуппи не идти на плавание в десять тридцать? - Успеем, сказал Тедди. - Ш л е п. Неожиданно он весь высунулся в иллюминатор, а потом обернулся в каюту и доложил:
Кто-то сейчас выбросил целое ведро апельсинных очистков из окошка.
Из окошка... Из окошка, - ядовито протянул мистер Макардль, стряхивая пепел. - Из иллюминатора, братец, из иллюминатора.
Он взглянул на жену.
Позвони в Бостон. Скорей свяжись с лейдеккеровской группой.
Подумать только, какие мы остроумные, - сказала миссис Макардль. Чего ты стараешься? Тедди опять высунулся.
Красиво плывут. - сказал он не оборачиваясь. - Интересно...
Тедди! Последний раз тебе говорю, а там...
Интересно не то, что они плывут, - продолжал Тедди. - Интересно, что я вообще знаю об их существовании. Если б я их не видел, то не знал бы, что они тут, а если б не знал, то даже не мог бы сказать, что они существуют. Вот вам удачный, я бы даже сказал, блестящий пример того как...
Тедди, - прервала его рассуждения миссис Макардль, даже не шевельнувшись под простыней. - Иди поищи Пуппи. Где она? Нельзя, чтобы после вчерашнего перегрева она опять жарилась на солнце.
Она надежно защищена. Я заставил ее надеть комбинезон, - сказал Тедди. - А они уже начали тонуть... Скоро они будут плавать только в моем сознании. Интересно - ведь если разобраться, именно в моем сознании они и начали плавать. Если бы, скажем, я здесь не стоял или если бы кто-нибудь сейчас зашел сюда и взял бы да и снес мне голову, пока я...
Где же Пупсик? - спросила миссис Макардль. - Тедди, посмотри на маму.
Сэлинджера завораживало все идиотически-единичное, все абсурдно-конкретное, а социальный политический фон он безжалостно устранял. Возьмем первую фразу его знаменитого рассказа «The perfect day for banana-fish», который у нас перевели «Как хорошо ловится рыбка-бананка»: «В гостинице жили девяносто семь нью-йоркцев, агентов по рекламе, и они так загрузили междугородный телефон, что молодой женщине из 507-го номера пришлось ждать полдня, почти до половины третьего, пока ее соединили». Для чего подобная точность? Попробуем разобраться, для чего.
Что мы знаем о Сэлинджере? Родился в еврейской семье, окончил школу, среднее военное училище, ездил в Европу по делам отца, незадолго до войны начал печататься. После войны опубликовал свои рассказы в престижном журнале New Yorker. В 1951 году выпустил свой первый бестселлер «Над пропастью во ржи», и с этого момента, как известно, стал избегать публичности. Женился, стал отцом двух детей. Напечатал «Повесть о Глассах», развелся, потом снова женился и снова развелся. Вот, собственно, и все. Всякое филологическое исследование основывается на фактах, а не догадках и косвенных сведениях, а прямых сведений, касающихся жизни Сэлинджера, у нас почти нет, разве что самые общие.
«Сэлинджер постарался и остался для всех нас странной загадкой, человеком-уверткой, в жизнь которого мы можем с легкостью вписывать наши любимые концепции»
Мы ничего или почти ничего не знаем о его характере. Мы ничего не знаем о складе его ума, стадиях его духовного, нравственного, морального или интеллектуального развития. Что нам нужно, чтобы писать о нем филологию? Нужны дневники, мемуары современников, черновые записки, записные книжки, письма, опись библиотеки, свидетельства друзей - все, без чего филология не происходит, не возникает. Но всем этим мы не располагаем или почти не располагаем. Сэлинджер тщательно скрывал от нас свою жизнь. Он не встречался с журналистами и не давал интервью.
Сэлинджер постарался и остался для всех нас странной загадкой, человеком-уверткой, в жизнь которого мы можем с легкостью вписывать наши любимые концепции. Что мы знаем о Сэлинджере? Только очертания, контуры и абрисы. Существует масса интерпретаций его творчества и жизни, но все они не приближают нас к пониманию его личности. В самом начале XXI века литературный мир взорвала настоящая сенсация: дочь Сэлинджера опубликовала мемуары об отце. Книга стала бестселлером и была переведена на многие языки, в том числе и на русский язык. Это обсессивный невроз бывшего обитателя кампуса, вырванного из семьи и в качестве протеста показывающего именитому папаше отогнутый средний палец. Однако к пониманию Сэлинджера книга его дочери ровным счетом ничего не добавляет.
Он остается белым пятном странной недоговоренности. Не помогают и более серьезные биографии писателя, которых было написано множество за последние три-четыре года. Фактов много, но возникает ровно тот же эффект, что и от начала рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». Все факты собраны, переданы в предельной конкретности, но они остаются контуром, они остаются абрисом, проявлениями какой-то силы, природа и суть которой нам совершенно неизвестны.
Посмотрите и вспомните рассказы Сэлинджера. Мы не всегда знаем, что в них происходит. Большей частью нам приходится догадываться и достраивать, дописывать сэлинджеровскую сюжетную реальность. Например, рассказ «Человек, который смеялся». Там есть два персонажа: Джон Гесудски и Мэри Хадсон. Они встречаются, потом они расстаются. Маленький мальчик-рассказчик не дает никаких комментариев. Мы даже не понимаем, что они расстаются, а если и расстаются, то почему? Или рассказ «Тедди». Вспомним, как он заканчивается: этот мальчик-пророк, практик и теоретик дзэн-буддизма, рассказывает американскому журналисту, как он погибнет. «Я спущусь вниз, там будет бассейн, а там будет смена воды, я встану, воду уже сольют, а я этого не увижу, я упаду в бассейн, и так я погибну». Он туда спускается, журналист начинает подозревать что-то неладное, начинает тревожиться, и раздается детский крик. На этом рассказ заканчивается. Погиб ли Тедди? Интересный вопрос.
В романе «Над пропастью во ржи» есть довольно интересный момент, когда главный герой Холден Колфилд приходит домой к своему учителю. Тот оставляет его ночевать. Колфилд, просыпаясь вдруг посреди ночи, обнаруживает, что учитель сидит у него на кровати и нежно, ласково на него смотрит. Холден в ужасе, потому что он считал учителя единственным нормальным человеком, а выяснилось, что он гомосексуалист и педофил. Он в панике собирается, одевается, выбегает. Учитель говорит: «Ты меня не так понял, ты меня не так понял», что обычно и говорят в таких случаях нарушители закона. Холден говорит: «Нет, я понял все именно так». И потом, когда он уходит, приходит в себя и думает, что, быть может, учитель действительно не хотел ничего дурного. Мы так и не узнаем до конца романа, что там было на самом деле. Сэлинджер оставляет здание недостроенным, нам нужно его достраивать, додумывать, доделывать, договаривать, т.е. часть панорамы каким-то образом устранена. Мы часто видим в его рассказах частное, видим какие-то детали, но общего мы не видим.
Давайте подумаем о героях Сэлинджера и подумаем, можем ли мы вообще что-то о них рассказать и как-то их себе представить. Как правило, герои Сэлинджера вырваны из своих биографий. Мы очень редко знаем или знаем очень смутно о том, что с ними происходило до того, как они появились на страницах рассказа. Мы ничего не знаем о Симоре Глассе - персонаже рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка» - также как и о других персонажах. Нужно все достраивать.
«У Сэлинджера никогда ничего не бывает и не должно быть просто так, предметы возникают только у плохих писателей»
В рассказе, как вы знаете, не нужны обстоятельные биографии героев. Рассказ - это другой жанр, но, тем не менее, любой автор старается как-то описать своего персонажа. Мы должны представить, как выглядит этот персонаж. Обратите внимание, что мы почти никогда не знаем, как выглядит селинджеровский персонаж. Как выглядит Симор Гласс? Бледный. Ну и что? Про его жену Мюриэль мы знаем только то, что у нее есть небольшая бородавка на щеке и там растут три волоска. Мы видим иногда лунки для ногтей, но никогда не видим всю руку. Мы видим участок комнаты, но никогда не видим комнату. Мы не видим персонажей. Эта игра, в которую нам предлагает поиграть Сэлинджер, называется «Раскрась сам». Надо самим раскрасить этот мир и его достроить.
Мы помним метафору Чехова, который сказал, что если в первом действии пьесы есть описание ружья, висящего на стене, то в третьем действии или в крайнем случае в пятом оно обязательно выстрелит. Весь мир Сэлинджера - это мир не стреляющих ружей. Здесь появляется странная иллюзия, что Сэлинджер выводит предмет из контекста. Когда предмет взят вне контекста, а у Сэлинджера все предметы взяты вне контекста, мы не понимаем, что предмет означает, потому что смысл задается именно контекстом. Когда предмет возникает в контексте, мы его понимаем. Но Сэлинджер делает то, что Ролан Барт назвал «эффектом реальности» - означающее, минуя означаемое, отсылает напрямую к референту. Американская литература любит это - предметы как таковые, предметы самодостаточные. Предметы становятся яркими, фактурными, материальными, реальными, но главное, что предметы возникают абсолютно изолировано. У Сэлинджера никогда ничего не бывает и не должно быть просто так, предметы возникают только у плохих писателей. У Сэлинджера предметы остаются вырванными из контекста, невыясненными, многозначными. К чему они отсылают? Что означают? Для чего они тут? Об этом можно только догадываться, и никаких разъяснений здесь нет. У Сэлинджера предмет возникает в ситуации единичности, и сэлинджеровские миры чудовищно единичны.
![]()
Здесь начинает работать экзистенциалистская идея, с одной стороны, пришедшая к Сэлинджеру от Сартра и Камю, с другой стороны, от Хемингуэя и Шервуда Андерсона. Идея заброшенности человека, идея того, что человек окружен заброшенными вещами. Это важная идея, но почему она находит столь плодотворную почву в США? Потому что люди, проживавшие на гигантской территории этой страны, переживали чудовищное ощущение богооставленности - чувство, формирующее американскую жизнь. Американцы не случайно постоянно муссируют тему холокоста, не случайно, что один из лучших романов о холокосте «Выбор Софии» написан именно в Америке. «Нас оставил Бог» - это чувство, проявляющееся в образе не связанности субъекта с окружающими его предметами, дающее о себе знать, когда мы читаем рассказы Сэлинджера.
Как Сэлинджер добивается этого эффекта на тематическом уровне? Как вещи становятся равнодушными? Вещи не дружелюбны, вещи не враждебны, вещи - равнодушны. Есть силы, приводящие мир в движение: поверьте, раковой опухоли все равно, что разрушать, будь-то травинка или мозг Эйнштейна; падающему с десятого этажа кирпичу все равно, кто находится, стоит, проходит, курит или обитает внизу, будь то беременная женщина, женщина с коляской, алкоголик или лужа. Это ощущение равнодушия и некоторой враждебности предметов присутствует, когда читаешь рассказы Сэлинджера. Если человек сует руку в корзину с грязным бельем, там обязательно оказывается бритва, разрезающая ему палец. Если фронтовик, прошедший всю войну, распаковывает плиту, она взрывается у него в руках, и он погибает. Если человек бежит, он обязательно споткнется, обо что-нибудь ударится и вывихнет лодыжку.
Здесь есть еще одна важная американская идея, высказанная еще Уолтом Уитменом и доведенная до ума Жилем Делезом. Идея заключается вот в чем: Америка - это скорее лоскутное одеяло, она заселялась по-разному и в разное время. Она кажется монолитной, но совершенно не монолитна. Америка состоит из отдельных фрагментов, но принцип соединения этих фрагментов не заложен в Америке. Каждый человек, который высаживается на берегу Америки, должен повторять открытие Колумба. Америка вам ничего не предложит, но всегда будет такой, какой вы ее соберете. Захотите - она будет интеллектуальной, захотите - она будет туповатой, захотите - она будет торгашеской. Отсюда особый фрагментарный стиль американского мышления.
Обратите внимание, что тексты англо-американской литературы - фрагментарны. Взгляните на творчество Марка Твена с его известным романом «Приключения Тома Сойера» не глазами русского читателя, и вы увидите, что это не роман, а набор анекдотов. Там только к концу романа выстраивается какой-то связный сюжет, но, в принципе, Марк Твен не балует нас связными сюжетами - это набор фрагментов, которые мы должны собрать. Так действуют самые крупные американские писатели Сэлинджер, Хемингуэй, Апдайк, Воннегут. Есть, конечно, американские авторы, которые скорее смотрят в сторону Европы, ориентируются на большие нарративы, но Америка - это не страна большого нарратива, она фрагментарна. Америка - это страна, в которой нет эпоса. Американцы не смогли написать эпос, не смогли написать большой нарратив.
«Сэлинджер пытается нам объяснить, что смыслов нет, но есть некий замысел мира»
В итоге в мире Сэлинджера предстает ужасно неопределенный мир, который автор предлагает достраивать и додумывать. И когда мы читаем его рассказы, то этим постоянно и занимаемся. Но как? Только так, как это можем сделать мы. Каждый делает это по-своему, потому что у каждого есть картина мира. Мы вчитываем в тексты Сэлинджера самих себя. Почему так популярен роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи»? Холден Колфилд - это увертка. В Холдене Колфилде все узнают себя. И если тысячи, миллионы людей узнают в этом герое самого себя, то надо задать вопрос: каким образом? Тексты Сэлинджера развернуты как некие зеркала, в которых мы себя обнаруживаем. Мы выбрасываем себя в мир этих рассказов.
С одной стороны, мы читаем Сэлинджера, и это естественно, но, обратите внимание, Сэлинджер скорее прочитывает нас. Прочитайте рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка». Прочитайте его через месяц, у вас к этому моменту будет совершенно другой опыт, и прочтение рассказа будет совершенно иным. Вы увидите там, чего вы в принципе раньше не видели. Он все время нас прочитывает, выбалтывает и заставляет избавляться от чего-то ненужного. Здесь проявляется важная идея, на которой Сэлинджер заканчивает свое творчество. Он нам говорит, что мир бессмысленен. В человеческом мире нет смысла. Когда мы читаем Сэлинджера, мы набрасываем на мир смыслы. Да и не только когда читаем Сэлинджера: мы так живем. Мы набрасываем на мир смыслы и расстраиваемся, если обнаруживаем, что он организован не в соответствии с нашими смыслами. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Плохо то, что мы набрасываем на мир смысл, а смысла в мире нет. С другой стороны, хорошо, что мы от этого избавляемся, избавляемся от внешней оболочки нашего я, лишних эмоций и лишних идей.
Сэлинджер пытается нам объяснить, что смыслов нет, но есть некий замысел мира. Это не ваш мир, это мир бога, просто вы не в состоянии вместить в себя этот замысел. Экзистенциализм Сэлинджера носит религиозный характер, а вот сами его тексты и рассказы - это что-то вроде буддистских текстов, коанов, позволяющих расширить сознание, или же что-то вроде марихуаны.

Олимпиадная работа
по литературе
«Девять рассказов», Селинджер
«В поисках смысла…»
Независимо от того, что каждый человек пытается найти для себя в хорошей книге, большинство вполне устраивает наличие в ней интересного сюжета, разворачивающегося действия с непременной кульминацией и завершением, понятность действий и поступков героев, красота языка автора, но, вместе с тем, чтение было бы тем интереснее, чем проще изложение мыслей. И, естественно, более понятной и интересной для читателя будет та книга, где авторское мнение если не бесспорно и однозначно, то вполне очевидно, чем та, в которой нет и его следа. В первом случае с автором можно соглашаться, спорить, можно говорить о его жизненных ценностях, морали, мыслях. Но что можно сказать о человеке, чьи произведения не подходят под все эти эпитеты просто интересной книги? С ним нельзя спорить – он ведь ничего не пытается доказать. С ним нельзя согласиться, – откуда же вы знаете, какова его точка зрения? Можно ругать его, называя эту загадочное отсутствие ярко выраженной позиции желанием доказать всем, что понять его невозможно, - да всем, чем угодно. Но от этого он не раскроется и не получится его понять.
Странно, как люди любят все исчезающее. Стоит пропасть сущей безделушке, – и она превращается в достояние чуть ли не всей жизни, безвременно утерянное. Стоит погибнуть известному музыканту – и толпа его фанатов пополняется равно пропорционально его мастерству и обратно пропорционально банальности его смерти. И почему, собственно, люди так любят загадки, если предпочитают, чтобы все им было ясно, все легко решалось? Не от вечной ли парадоксальности в голове, совмещающей несуществующее с реальным, банальное с ярким, живое – с мертвым?
Странное исчезновение Селинджера из мира пробудило, естественно, множество слухов и толкований. Сам факт прекращения им писательской деятельности, его скрытного существования добавляют лишнюю, как мне кажется, и неоправданную двусмысленность, таинственность его произведениям. Хочется вчитаться внимательнее в его рассказы, – а вдруг где-то обронена случайная фраза, некое объяснение его загадочности? Это отвлекает внимание от главного, ведь понять человека и понять его произведения – разные вещи.
Цикл «Девять рассказов», как считают многие критики, и в этом я с ними согласна, собрал в себе наиболее интересные и важные для Селинджера произведения. Само название его, казалось бы, столь неоригинальное и безыскусное, толкуется критиками неоднозначно: они видят в нем отзвуки религиозных доктрин, число «девять» в которых - одна из философских метафор «Махабхараты», где человеческое тело уподоблено «девятивратному граду», а также сакральная цифра, без которой нельзя понять поэтику «дхвани», то есть глубоко зашифрованного важнейшего смысла, каким должен обладать, по древнеиндийским верованиям, художественный текст.
Но, разумеется, это – всего лишь предположения, попытки поймать за ниточку ускользающий смысл, все объяснить и понять. Селинджер всегда будет притягивать отсутствием каких бы то ни было объяснений, ярко выраженной морали, понятного и очевидного вывода, в конце концов, людей, жаждущих до всего докопаться и все разложить по полочкам. Этого не избежать, но сам Селинджер выражает свою точку зрения об этих судорожных поисках оболочки, в которую можно было бы облечь легкий, медленно ускользающий и поднимающийся вверх газ в рассказе «Тедди».
Рассказы Селинджера, почти каждый из них, посвящены проблеме перехода из мира ребенка, мира неподдельности, искренних чувств – во взрослый мир – мир жестких рамок, налагаемых на стиль поведения, мысли, внутренний мир; или же сравнению этих двух миров. К рамкам очень сложно привыкнуть, они калечат и убивают все естественное и живое. Дети, конденсаторы счастья естественности и сумбурности, в каждом из этих девяти рассказов ставят под сомнение «нужность» и раз и навсегда определенную, стереотипную правильность поведения взрослых. Разве не естественно для взрослого – писать о понятном ему взрослом мире, чью скрепленную раз и навсегда сургучными печатями времени и опыта определенность он так хорошо изучил? Разве взрослый, забывший о том, как нужно правильно, как должно все быть, может считаться нормальным? Он либо притворяется, подделывается с непонятной целью под ребенка, – но ведь не заметить фальшь невозможно, – либо он нездоров, неправилен, неадекватен окружающей его установившей свои законы действительности.
По Селинджеру, странен тот человек, который не понимает относительности всего в мире, не понимает шаткости того, что называют незыблемым. Именно об этом говорит его герой – мальчик Тедди. Все его поступки, манеры, течение его мыслей выдают в нем ребенка. И, вместе с тем, он стал как бы воплощением мечты автора о ребенке, вобравшем в себя лучшие, не опротивевшие и не пошлые качества взрослого. Тедди слишком умен для простого десятилетнего мальчика. Повзрослевший, но не взрослый, он неудержимо притягивает к себе внимание и симпатию автора.
Взрослые играют в этом рассказе эпизодичные роли, в целом, показательные. Они подчеркивают своей нечувствительностью, стереотипностью представления (они ведь не принимают Тедди всерьез, да и как во взрослом устоявшемся мире возможна такая мысль) противоречивость, несогласованность двух миров, в одном из которых правит свет, живое и яркое, а в другом – привычное, статичное, принятое. Все – от официанток до дородных барышень на палубе умиляются, ерошат волосы Тедди, не понимая, что нельзя относиться к человеку согласно «правилам», продиктованным его возрастом и внешним видом. В мире слишком много условностей, принятых большинством и переходящих из поколения в поколение, и мало кто способен пересилить себя и нарушить их. Очень редко в рассказах появляются «нарушающие» люди, но здесь есть такой человек. Никольсон со всей серьезностью относится к мыслям и словам Тедди, и можно простить его слишком обычный, стереотипный взгляд на вещи. Он не способен просто взять и поверить в то, о чем говорит ему Тедди просто потому, что в его взрослом мире, в его представлении об этом мире не так уж просто что-то изменить.
Я думаю, этот рассказ – промежуточный результат естественного для всех людей духовного поиска. Причем, так как окружающие героя люди слишком сильно реагируют на его «истины», создается впечатление, что они слишком сильно склонны не верить, а ведь в реальном мире такое изобилие окружающих настолько скептически настроенных людей почти невероятно. За счет этого глобального непонимания и неверия людей сам Тедди выглядит непонятым гением, одиноким в своем знании. Его фигура становится почти героической, и дальше действие рассказа разворачивается по сценарию, вполне соответствующему банальному «сюжету из жизни героя» - смерть Тедди это только подтверждает. Конечно, ни в коей мере нельзя назвать этот рассказ, или его сюжет, или философию, в нем излагаемую, банальной, но создается впечатление, что этот образ одинокого героя самим Селинджером очень глубоко прочувствован. А так, как сам он говорил, что «…в литературе нельзя смешивать идущее непосредственно от событий в жизни автора и отмеченное печатью его личности: допустимо только второе» , то можно говорить о том, что для Селинджера это ощущение отторженности, непринятости, чуждости и одиночества было довольно болезненным и знакомым. Наверно любое произведение, да и творчество вообще, служит для его создателя, прежде всего, возможностью выплеснуть свои чувства. И именно степень этого «выплескивания» и определяет интересность и уникальность произведения. Ведь именно печать личности автора делает его творение ни на что не похожим и хотя бы уже поэтому интересным.
Действие рассказа очень динамично, причем все герои «говорят» в прямой речи, без присущих обычной Селинджеровской манере косвенно-речных высказываний, носящих отпечаток авторской руки. В несколько лишенном таким образом выражений чувств автора тексте при этом настолько выразительно подчеркивается практически каждый оттенок улыбки, выражение лица, потягивание, каждый нечаянный жест и даже настроение, с которым поворачивают дверную ручку, что нужное впечатление у читателя создается само по себе, не всегда, может быть, понятным ему образом, но как раз за счет этого обилия описаний, красивых в своей простоте и остающихся незамеченными при не слишком внимательном и сосредоточенном чтении.
Мне кажется, что этот рассказ несколько надуман, фантастичен, тогда как в общем Селинджер интересен своей реалистичностью, правдивой простотой и узнаваемостью ситуаций. Мистика смерти Тедди делает этот рассказ похожим на произведения Рея Бредбери, хотя, в общем, этот писатель – последний, кто может прийти в голову при поиске мотивов, схожих с Селинджеровскими.
Не проявляя своего отношения к героям открыто и прямо, Селинджер, тем не менее, использует некоторые приемы, при помощи которых он делает свои чувства по отношению к героям видимыми и узнаваемыми. Один из таких приемов – очень продуманная, отражающая характер и личные предпочтения самого автора детализация. Селинджера, вероятно, можно отнести к визуалистам, а это значит, что все, что касается внешнего облика, внешних проявлений личных качеств, для него является определяющим. Например, такая деталь, как то, что во всех без исключения рассказах герои курят, в каждом отдельном случае означает совершенно разное. Общее, что объединяет курящих людей у Селинджера – нервозность. И, соответственно, степень нервозности в разных рассказах варьируется от помешательства, с вечной дрожью в руках, когда следующая сигарета прикуривается от предыдущей, до простого беспокойства, сопровождающегося женственным и каким-то даже красивым курением.
Мэри Хадсон не курила до самого странного и поворотного момента рассказа «Человек, который смеялся». И сам факт, что она сидела на скамеечке, «…стиснутая двумя няньками с колясочками…» и курила сигарету, показывает всю напряженность и нестандартную драматичность того, что произошло (пусть даже это и остается навсегда скрытым от «команчей»). Вообще, всех подростков (а ведь одна из самых больших проблем, играющая во всех произведениях Селинджера немаловажную роль – переход из детства во взрослый мир) Селинджер показывает нервными, переменчивыми, раздражительными, непонятными, странными. В этом рассказе разница – дети и подростки – подчеркнута: существуют два мира, очень тесно взаимодействующих – один воплощен в орущей, бегающей, подвижной детской ораве, второй же намного более задумчив, сложен, неоднозначен и непонятен, он принадлежит здесь всего лишь двум людям – Вождю и Мэри.
Ребенок, от лица которого ведется рассказ, охотно верит в историю о Человеке, который смеялся, да и вся жизнь для него – увлекательная игра в эту сказку, сдобренная романтическими представлениями о своей к ней принадлежности (как будто бы он – тайный потомок Человека), равно как и у остальных двадцати четырех «команчей». Но историю эту он ведет уже не ребенком, так, как будто все происходящее уже давно подернулось дымкой и события обрели, как обычно они обретают по прошествии времени, несколько более обтекаемые и своеобразно красивые романтические формы. Особую ноту этому рассказу придает как раз тоска повествователя, тоска по безвозвратно ушедшему детскому счастью, по этой наивной вере в Человека, который смеялся, тоска по странной и нелепой, наивной возможности затеряться «…в дебрях между дорожным знаком и просторами вашингтонского моста», по непониманию всего взрослого, избавляющего от всего реального и обыденного, что так горько отравляет взрослую жизнь.
Вождь, казалось бы, уже изначально стоит выше, он во всех отношениях взрослее «команчей»: к нему относятся не как к равному, его ценят за взрослые качества, его покровительством и благосклонностью гордятся. Но, вместе с тем, он – простой студент, наделенный, несомненно, повествовательными способностями и лидерством. Чем он так притягивал двадцать пять мальчишек, заставлял их, не дыша, сидеть и слушать долгие рассказы о похождениях Человека, который смеялся? Может быть, своей взрослостью, такой незнакомой и загадочной? Или сказкой, позаимствованной у Гюго, «самым подходящим рассказом для настоящих команчей»? Все дети играют в какие-то истории, придумывая себе роли и само действие. Эти сказки становятся ненужными и забываются, когда дети вырастают. Вождь же все еще был ребенком. Причина его взросления – любовь, появившаяся как фотография над зеркальцем, обретшая потом красивые черты. Изменения наступают одновременно с приходом ее в этот замкнутый мир «команчей». Она нарушает сразу все правила, хотя бы даже своим присутствием в их компании. Ее желание поиграть в чисто мужскую игру встречает огромное сопротивление: ведь это не по правилам. Она вроде бы и лишняя, но без нее уже нельзя, она – неизбежный атрибут вечных перемен в жизни, отрицание которых было бы абсурдным.
В этом рассказе удивительно сочетается два, по сути, совсем разных стиля – за счет передачи из уст автора истории о Человеке, который смеялся параллельно с описанием событий его собственной жизни. Стиль рассказов о Человеке, близкий к стилю приключенческого романа, оставляет свой след и в самом действии, но лишь когда речь идет о чувствах или мыслях автора относительно того, что рассказывает Вождь. Тогда в довольно просторечной и разговорной манере, доминирующей в авторской «половине», появляются высокопарные красивые слова типа: бороться с лишениями, тоска по вольной жизни. Вообще же, Вождь описан здесь очень иронично, но с заметной нежностью, которая обычно проявляется к людям довольно забавным, но не осознающим этой своей забавности и оттого милым. Его слова обычно передаются в косвенной речи, в интерпретации автора и специально оттененные так, чтобы их забавная окраска (если таковая, конечно, есть) сразу бросалась в глаза. Кажется, что невозможно не подчиниться этой манере автора и не перенять его нежного отношения к Вождю. Его нельзя не любить не просто за его «милость» – это было бы слишком банально, – но и за его ум, его воображение, его умение делать все, словом, за все то, что поднимало его в глазах «команчей» на пьедестал Вождя.
Красивая история о Человеке, который смеялся вплетена в сюжет рассказа: она не только дополняет и добавляет некоего художественного очарования тексту, но и комментирует события. Ведь, в сущности, Вождь сам придумал события повести о Человеке, – у Гюго позаимствована лишь сама идея, – и события в его повествовании развиваются соответственно развитию событий его собственной жизни. Начало проблем в его, ставшей вдруг взрослой, жизни неизбежно разворачивает действие, и Человека, который смеется берут в плен. Затем – странный, непонятный «команчам» разговор на поле – и Человек, который смеялся убит. Потому ли, что Вождю просто наскучила эта игра, или же он просто из нее вырос, но продолжения никогда больше не было.
Мудрый, понимающий взрослый появляется в другом рассказе этого цикла – «В лодке». Это – мать маленького мальчика. Мальчик все время сбегает из дома, он не согласен, не может принять взрослый мир, в котором принято и нормально говорить странные, обидные вещи. Казалось бы, его задевают сущие пустяки, его уходы из дома немотивированны и малопонятны, но действительная трагедия в том, что многие даже не пытаются попробовать понять то, что считают глупостью. Понимает только мать мальчика, – она знает, как это - когда что-то, что производит на тебя большое впечатление, заставляет тебя плакать, для других – всего лишь проходящая чепуха. Бу-бу не жалуется на судьбу, не воспитывает сына так, как принято, как нужно, как сделала бы почти любая мать. Она пытается его понять. Этим она отличается от типичного Селинджеровского взрослого. То, что Лайонел, закрывшийся и неприступный, прогоняющий и не желающий ничего слушать, вдруг, плача, обнимает Бу-бу и объясняет ей, почему он ушел из дома, многое говорит о ней, как о понимающей, чуткой и чувствующей матери.
Протест этого рассказа вполне созвучен протесту Тедди. Одинокий в своем секретном знании чего-то (что здесь – понимание несправедливости, категоричности и злобности всего вокруг) мальчик, не желающий примириться с существующими нормами и понятиями, сам отгораживает себя стеной, за которую поначалу не пропускает даже мать. Но если Тедди вполне отдает себе отчет в том, что делает, то Лайонел еще слишком мал, чтобы все понимать. Все, что у него есть – живые, бьющие через край чувства, а протест и несогласие носят подсознательный характер. Может быть, у реального маленького ребенка такое поведение могло бы быть истолковано как попытка обратить на себя внимание или же шалость и излишнее упрямство, в рассказе акценты расставлены очень точно, и Лайонел протестует не ради самого протеста, а действительно потому, что не протестовать и не противиться он не может: так уж устроено его детское сердце.
Бросается в глаза сильная разница между двумя частями, на которые разделен рассказ, как это часто бывает у Селинджера. Первая часть – это несколько нелепый и не несущий никакой интеллектуальной нагрузки разговор между Сандры, кухарки, которая и стала виновницей всего происшедшего и мисс Снелл – горничной в черной фетровой шляпе с поблекшим, но гордым ярлыком модного салона. Примечательно то, что миссис Снелл курит, и как она курит. Закуривание превращается в целый ритуал: сначала – доставание из потертой, но тоже с гордым и внушительным ярлыком, сумки, сигарет, причем ментоловых – само это слово автор смакует, словно подчеркивая престижность ментоловых сигарет по сравнению с обычными; затем – спичек «Сторк-клуб» (не совсем понятно, что это за клуб, но название внушает уважение). Перед нами уже вырисован образ, лишенный, по всей видимости, каких-либо авторских симпатий. Его отношение к Сандре проявляется в наделении ее привычкой поджимать губы (ни один любимый Селинджером персонаж никогда такого не сделал бы) и в том, что она говорит о Лайонеле. Взрослые, ругающие или просто без должной теплоты говорящие о детях, автоматически неприятны автору, но этот «закон» не имеет обратной силы: не всех, кто хорошо относится к детям, автор любит.
Разговор вертится по одной траектории и, по сути своей, настолько же глуп, как фетровая шляпка мисс Снелл. Но в этой беседе ничего не объясняется, и чем дальше, тем больше она интригует читателя. Некоторую ясность и оживление вносит в него приход Бу-бу, чья отличность от Сандры и Мисс Снелл сразу же бросается в глаза.
Вторая часть настолько отличается от первой (разговор здесь уже совсем не такой просторечный и глуповатый, а автор замечает, как он обычно это делает, неожиданные, казалось бы, незначимые жесты, движения, мысли героев, но комментирует их уже без господствующего в первой части осмеяния и неприязни), что кажется, что первая часть, по существу, показывающая нам второстепенных героев, но ничего не объясняющая, нужна лишь для того, чтобы дать почувствовать разницу между глупым, непонятным и бессмысленным миром взрослых и понимающим, чутким, внимательным общением матери с ребенком. Ощущение понимания, тепла и любви появляется, как мне кажется, благодаря умело срежессированной автором игре в моряков, в которой сам он принимает участие: вместе с матерью старается подыграть Лайонелу, описывая, например, поворачивание весла в лодке как поворот румпеля судна, и лишь частично обличает ее расчет в этой игре оборотами «словно бы вспомнила», «важно поглядела», «по ее лицу видно было» и т.д.
От признания Лайонела в том, что Сандра назвала его папу «большим грязным жидюгой», Бу-бу передергивает. Она так же, как и Лайонел, не понимает грубости окружающего мира, ее так же, как и ребенка, эта грубость задевает, но Бу-бу понимает, что ничего сделать она не в силах, пытается забыть, ей хочется, чтобы все это меньше ранило Лайонела. Как и любой матери, ей прежде всего важны чувства ее сына.
Рассказ «Лапа-растяпа» показывает страшную пропасть с узкой дорожкой, проведенной по ее краю. Жизнь превратилась в трагический абсурд после нелепой случайности, ставшей причиной смерти мужа Элоизы. Элоиза сорвалась в эту пропасть, и сама она прекрасно это осознает. Она летит вниз, увлекая за собой Рамону – ее дочь, которая в своем одиночестве придумывает себе друзей, пытаясь этим спастись от того, на что обрекла себя ее мать. Но Элоиза отнимает у Рамоны ее друга, цинично и грубо подвигая ее на середину кроватки. Несмотря на то, что многие чувства в Элоизе уже мертвы, представления о том, что правильно, как нужно все еще живы. Не умея навести порядок в своей жизни, она пытается сделать Рамонину такой, какой она должна быть по неизвестно кем придуманным канонам. И рушит все. Действительно, зачем нужна жизнь, если она превращается в тоску по мучительно невозвратимому прошлому, которая съедает все внутри?
Композиция рассказа – это сумбурный диалог двух подруг, прерываемый изредка походами в кухню за новой порцией виски. В сущности, тема разговора меняется вместе с количеством уже выпитого, и, как это часто бывает, разговор плавно перетекает из просто беседы двух давно не видевшихся подружек в откровенное выражение самых скрытых чувств. Но, как оказывается, из тупика, в который зашла Элоиза, нет выхода: все чувства мертвы, кроме разве что тоски и ощущения этой безнадежной пропасти под ногами.
Такая же пустая изнутри жизнь, доведенная до этого состояния все тем же нелепым, глупым в масштабах человеческой души стечением обстоятельств, точнее – войной, - у Симора, жизненный путь которого описан Селинджером в его повествованиях о семействе Глассов. Но рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» интересен не столько в контексте его принадлежности к повестям о Глассах, сколько сам по себе. Человек, у которого ничего больше нет в жизни – все иллюзии разорваны, все устоявшееся разрушено, мир перевернулся, не может сохранить здравый рассудок. Из диалога Мюриэль с матерью многое становится понятным – Симора считают ненормальным, он делает странные вещи, совершает неожиданные, непонятные поступки. Мать считает его опасным, Мюриэль уверяет ее, что ничего не может произойти. Если читать этот рассказ как отдельное произведение, никак не связанное с повестями о Глассах, можно действительно принять Симора за сумасшедшего, странного человека. Но такое впечатление рассеивается, стоит только начать читать вторую часть рассказа, где действие происходит на пляже. Диалог Симора с Сибиллочкой – маленькой девочкой в желтом купальнике, - его нежные ласкательные прозвища, игра, в которую он сам предлагает поиграть, завораживая девочку, – все это пронизано нежностью. Но это проявление чувств, давно забытых и похороненных, вероятно, Симором, лишний раз доказывают ему самому несостоятельность жизни, потерю всего, ради чего стоило бы жить. Ощущение этой девочки, ее наивности, естественности, ее неумения жить прошлым - в сравнении со знанием, опытом, отсутствием смысла жизни Симора, понимание этой роковой разницы становится для него смертельными. В третьей части рассказа он совсем другой – он возвращается в номер с принятым твердым решением. Но эта серьезность решения доведена до абсурда разговором в лифте. В самом деле, что такое в сравнении с предстоящим шагом для Симора взгляд какой-то пожилой дамы на его ноги? Почему он так цепляется к этому безобидному, может быть, придуманному взгляду? Симор с Сибиллой и Симор с этой дамой создают сильный, красноречивый контраст, из которого совершенно очевиден протест Симора против окружающего холодного, нечуткого, отталкивающего мира. Здесь невозможны проявления теплых чувств, они возникают только рядом с Сибиллой. Но детство, счастье неподдельности и простоты уже давно в прошлом. Все уничтожила война, которой маленькая девочка не может знать. Симор сделал выбор между вынужденной жизнью во взрослом мире и уходом от нее в пользу последнего.
Другой образ, несомненно, полный нежности и авторской благосклонной симпатии – образ Эсме в рассказе "Дорогой Эсме с любовью – и всякой мерзостью". Она - девочка, выросшая во время войны, маленькая, но уже понимающая, что выжить в это время способны только сильные и взрослые люди. Она старается повзрослеть, говорить, как взрослая, держаться с достоинством. Но автора особенно трогает в ней не смотря ни на что пробивающийся сквозь защитную стену ребенок. Это чувствуется во всем: в том, как она говорит, как боится, словно взрослая, плохо выглядеть и забавно при этом ощупывает волосы на макушке, как она относится к Чарльзу – младшему брату – совсем по-взрослому, как мать, но ее наставления забавны и трогательны. Чарльз, не смотря на свое слишком официальное и явно неподходящее имя, совершенно другой – несдержанный, импульсивный, живой и яркий ребенок. Это, как мне кажется, заслуга Эсме - именно она, сделавшись взрослой, сохранила брату детство. Хотя можно посмотреть на все под другим углом. Не игра ли это, - игра во взрослую жизнь, интересная для Эсме потому, что нет ничего лучше, чем выдумывать новые игры? Чарльз играет в загадки, Эсме играет во взрослую – почему нет? Вторая часть рассказа – сама по себе, даже повествование здесь ведется не от лица автора, а в третьем лице, так, словно автор не хочет иметь ничего общего с героем, потерявшим человеческий облик, безумным, грязным, ужасным. Героя совершенно изменила война. Он живет теперь в той самой мерзости, которую с детской категоричностью и желанием быть не как все, любит Эсме. Война уже окончилась, и не понятно, зачем продолжается весь этот фарс, эта антиутопия военного времени. Икс (как автор называет героя во второй части) неожиданно обнаруживает на столе посылку, пролежавшую там не одну неделю, и эта посылка возвращает его в
Характерные черты творчества детского писателя Николая Носова, проблематика его детских рассказов. Повести о школьной жизни, их настоящий детский язык. Эмоциональное выражение повседневных проблем, с которыми сталкиваются педагоги, родители и дети.
Жанровая установка произведений-очерк. Пространство и время. Проблемно-тематический уровень.Образы: Крамаренко, Егоршин, жена Егоршина, Вера, Колтунов, Юдин. Система персонажей в очерках Горького. Группы и системы взаимоотношений-наблюдение и анализ.
Анализ пейзажа как одного из жанрообразующих элементов показывает, что жанровая специфика произведения для детей обусловлена возрастными особенностями миропонимания и угасает по мере возмужания героя-рассказчика и читателя.
Особенности творческой манеры Вересаева. Сосредоточенность автора на социально-философской проблематике своего времени, внимание к мировоззренческим вопросам. Характеристика времени и пространств. Сюжетно-композицонная организация рассказа "Загадка".
Герой-ребенок в детских произведениях Р.П. Погодина всегда восходит к истокам идеи о мире и о себе, к истокам своего мифа. Его жизнь, страдания и подвиги открываются через соприкосновение с главными ценностями: любовью, свободой, красотой, Господом.
Во время форсированного развития капитализма большинство людей живут лишь для себя, не делая добра никому кроме себя. Идея Чехова в этом рассказе - это жизнь не для своего благополучия, а жизнь ради самой жизни.
"Палата №6" один из самых увлекательных рассказов Чехова с интересным сюжетом, который создан автором для выявления какого-либо порока в обществе, его причин и последствий. Жизнь доктора Рагина - история борьбы мировоззрения человека с реальностью.
Самое главное в произведение - это поэтизация любви как самого прекрасного, возвышенного чувства, любви как вечной человеческой ценности. Талант и мастерство Тургенева позволяют нам убедиться, что чувства, испытанные его героями в прошлом веке, вполне акт
Праздник Рождества как один из самых почитаемых в христианском мире. Проявление древней языческой традиции и религиозных символов. Рождественские рассказы Ч. Диккенса: детские образы и мотивы. Идеи воспитания юношества в русских святочных рассказах.
Изучение темы материнства как одной из ключевых в поэзии Цветаевой. Анализ автобиографических стихотворений "Четвертый год..." и "Ты будешь невинной, тонкой…", в которых главной героиней выступает дочь поэтессы как яркая личность и продолжение матери.
Изучение литературного процесса в конце XX в. Характеристика малой прозы Л. Улицкой. Особенности литературы так называемой "Новой волны", появившейся еще в 70-е годы XX в. Своеобразие художественного мира в рассказах Т. Толстой. Специфика "женской прозы".
Сочетания веселого и серьезного в произведениях Николая Носова. Особенности творческой манеры писателя. Своеобразие психологических характеристик героев юмористических рассказов. Значение произведений Носова для развития юмористической детской книги.
Сюжет сказки-поучения "Маленький принц", особенности ее структуры и содержание, история создания и оценка актуальности на современном этапе. Сказка и притча в сказке-притче, порядок донесения до детей простых истин. Образная система произведения.
С постоянным интересом и вниманием обращался к проблеме детства А.И. Куприн. Герои его рассказов - дети из "низов". Настоящим социальным протестом проникнуты его рассказы о детях, обреченных обществом на непосильную работу, на нищету и вымирание.
Образ отвергнутого обществом и ожесточившегося человека в рассказе Федора Михайловича Достоевского "Кроткая". Внутренний монолог героя после самоубийства жены. Все оттенки психологии героя в его взаимоотношении с Кроткой. Духовное одиночество героя.
Детство как особый период в жизни человека. Периоды детства по Л. Демозу. "Модели" ребенка в западноевропейской культурной традиции. Специфика детской литературы. Детство в повести Л. Кассиля "Кондуит и Швамбрания". Детская тема в творчестве М. Твена.
Григорий Александрович Печорин – яркий образ, созданный М.Ю. Лермонтовым. Неравнодушный человек, любознательный, желающий взять от жизни как можно больше. Печорин – человек противоречивый, неоднозначный.
Рассказ "Крыжовник" был написан А.П. Чеховым в 1898 году. Это были годы правления Николая II. Придя к власти в 1894 году, новый император дал понять, что либералы могут не надеяться на реформы, что он продолжит политический курс своего отца.
Проза Бунина почти магически воздействует на читателя. Понять причины этого можно лишь читая произведение не один раз, не торопясь. Цикл рассказав "Темные аллеи" - рассказы о любви, о ее "темных" и чаще всего мрачных и жестоких аллеях, о разочарованиях.
Рассказ "холодная осень" был написан И.А. Буниным в 1944 году. Это тяжелое время для всего мира в целом. Идет вторая мировая война. В этом рассказе слышится протест против войны, как орудия массового убийства людей и как самого страшного явления жизни.
Заключает книгу «Девять рассказов» новелла «Тедди», которая была напечатана в журнале «Нью-Йоркер» в январе 1953 г.
Главный ее персонаж - десятилетний Тедди Макардль, который возвращается на пароходе в Америку с отцом, матерью и сестрой после поездки в Европу. Тедди - ясновидящий и мудрец, он встречался в Европе с профессорами богословия нескольких университетов. Юный провидец, приверженец буддийского учения о перевоплощении, предсказывает будущее, чем он, собственно говоря, и занимался в Европе. Тедди - философ, он полагает, что спасение от одиночества, человеческой грубости и невежества следует искать в самоусовершенствовании, любви к ближнему, непротивлении злу, гуманному отношению к врагам.
В разговоре с лектором Никольсоном он предсказывает собственную смерть, прощает родителям их эгоизм, заранее прощает и свою злую сестренку, которая, как он знает, явится причиной его гибели. Затем Тедди спокойно отправляется «навстречу новому перевоплощению»: Никольсон слышит, как из бассейна раздается его предсмертный крик.
Ф. Гвинн и Дж. Блотнер, К. Александер и У. Френч считают, что концовка новеллы может толковаться двояко: возможно, исполняется пророчество вундеркинда Тедди, но возможно, что погибает, упав на дно пустого бассейна, не он, а его шестилетняя сестра Бупер, мучительно завидующая сверхъестественному уму, способностям и славе брата. Другие интерпретаторы новеллы не сомневаются в гибели Тедди. М. Гейсмар, например, уверенно пишет, что ревнивая сестра толкает своего обладающего даром предвидеть будущее брата на дно бассейна, из которого выпущена вода. Правда, юный герой, замечает критик, идет на смерть с радостью, но причину этого критик не объясняет, а лишь говорит, что здесь сказалось влияние на Сэлинджера Достоевского, Драйзера и Набокова, а также некоторых положений «культурного психоанализа».
У. Вигенд назвал «Тедди» шизофреническим бредом, И. Хассан утверждает, что этим рассказом в творчестве Сэлинджера начинается религиозная фаза, поскольку герой верит в ведическое перевоплощение и отчуждение, а реалистические портреты родителей Тедди и его сестры он считает весьма туманными. Он отвергает также бытующее в критической литературе о Сэлинджере мнение, что рассказ не нравится самому писателю (в то время жизненный путь писателя еще не был изучен во всех подробностях сотрудниками журнала «Тайм» и о нем распространялись самые фантастические слухи. Утверждали, что он поступил в буддийский монастырь, что находится на лечении в психиатрической клинике и т. д.).
Д. Барр также придерживается того мнения, что рассказ «Тедди» - начало новой фазы в творчестве Сэлинджера, поскольку он свидетельствует о явном увлечении философией дзэн. Здесь, пишет критик, вводится новый тип диалога, который впоследствии становится стандартным для писателя: предельно простое изложение устами героев целого ряда сложных умозаключений; персонажи остаются полноценными художественными образами.
Ф. Гвинн и Дж. Блотнер находят в рассказе «Тедди» идеи семантической философии. Разговор Тедди и лектора Никольсона напоминает им дискуссии из повестей о Глассах. Тедди, на их взгляд, мистик, который идет к неизбежной смерти в состоянии душевного равновесия, что резко контрастирует с логическим и эмоциональным эгоцентризмом всех остальных персонажей рассказа. В исследовании К. Александер рассказу посвящена отдельная глава, ибо, по ее мнению, именно эта новелла проложила путь к повестям о Глассах и, в частности, к книге «Френни и Зуи».
Д. Уэйкфилд называет «Тедди» сугубо мистическим произведением, не видя в нем ни следа реализма. Он полагает, что в этом рассказе содержится призыв покончить с материальными заботами в реальной жизни и перейти (как этого требуют мистические религиозные учения Востока) в «настоящий, а не иллюзорный» духовный мир, путь в который лежит через смерть. Д. Уэйкфилд сравнивает рассказ с «Голубым периодом де Домье-Смита», полагая, что оба написаны в духе внеинтеллектуального просветления дзэн.
В том же ключе рассматривает «Тедди» и Дж. Миллер-младший, объединяя его с «Голубым периодом де Домье-Смита» в группу «мистических новелл». Он считает, что в нем, как и в «Ловце во ржи», высказано отвращение к миру. «Если мы приемлем мир, созданный Сэлинджером в этом рассказе, - пишет критик, - то не будем скорбеть о судьбе Тедди, а поймем, что он стал на путь к следующему перевоплощению, приблизился к тому циклу, который приведет его к постоянному созерцанию Бога». Сравнивая Тедди с Билли Бадом Мелвилла, Дж. Миллер видит в гибели мальчика неизбежную закономерность, поскольку «идеальная доверчивость и невинность обречены в этом мире». по мнению советской исследовательницы Е. В. Завадской, есть дзэнский принцип отрицания рассудочного восприятия мира. Добавим, что последний сочетается в новелле не только с доктриной о перевоплощении, являющейся одним из постулатов буддизма, но и с теорией о переселении души человека после смерти в тела других существ, которая составляла основу учения Пифагора и ранних пифагорийцев. Здесь Сэлинджер стремится, как и в других произведениях, найти точки соприкосновения философских теорий Востока и Запада
В рассказе «Тедди» содержатся также намеки на доктрину Платона о припоминании (это отмечает К. Александер), т. е. о врожденном знании, присущем человеческому уму от рождения и не зависящем от его последующего опыта, а также отзвуки учений Декарта и Лейбница о «врожденных идеях».
Н. Анастасьев полагает, что рассказ не остался проходной вехой на литературном пути Сэлинджера и что писатель начал поиск положительного героя, стремясь к утверждению положительных ценностей. Т. Л. Морозова оценивает «Тедди» как посредственное произведение, отражающее склонность писателя к иллюзиям и мистике. Ю. Я. Лидский предлагает снять с рассказа мистическую оболочку, чтобы четче ощутить реальную обстановку мира, в котором живет Тедди, мальчик, оценивающий жалкую жизнь взрослых.
Каков же Тедди у самого Сэлинджера? Сын актера, исполняющего главные роли во многих передачах Нью-Йоркского радио, Тедди Макардль, несмотря на свой юный возраст, - созерцатель, мудрец. Глядя из иллюминатора на плывущую по воде кожуру апельсина, мальчик думает о том, что если он уйдет из каюты, то останется существовать лишь в уме других точно так же, как кожура апельсина, утонув, скрывшись из глаз, останется существовать лишь в его уме. Это построение есть, видимо, попытка толкования идеалистической теории Беркли о том, что «быть» всегда означает «быть в восприятии». Сочетаясь с исповедуемой Тедди буддийской доктриной о перевоплощении, это построение еще раз доказывает синкретизм мировоззрения автора. Однако вместе с тем писатель наделяет Тедди и чертами обычного, ничем не примечательного американского мальчика, который, не найдя общего языка с родителями, восстает против их голого практицизма и расчета.
Родители Тедди - типичные обыватели, чью бездуховность еще четче подчеркивает интеллектуализм сына. Никольсон, с которым Тедди беседует на палубе, также не в состоянии перешагнуть в этой беседе рамки обычного обывательского любопытства. Мальчик показан намного более человечным и благородным, хотя он воспринимает действительность с невозмутимостью, неземным спокойствием.
Согласно древнеиндийской поэтике «главное чувство», необходимое для создания настроения спокойствия, состоит в показе отречения героя от мира, безразличия к мирским треволнениям и заботам. Эта тема неоднократно подчеркивается в рассказе. Вначале мальчик спокойно относится к безобразной сцене, которую устраивает ему отец в каюте лайнера. Тема спокойствия доминирует и в разговоре Тедди с Никольсоном на палубе и, наконец, возникает и в финале, когда мальчик безмятежно направляется к бассейну, предварительно напророчив себе гибель. Эти спокойствие, уравновешенность, полное отречение от мира создают эстетическое настроение спокойствия.
Одновременно писатель стремится нарисовать и картину окружающей его жизни. Реалистического воспроизведения действительности, как мы уже говорили, требовали и создатели санскритской поэтики, и это требование сочеталось у них с теорией поэтических настроений (раса).
Сэлинджер сатирически описывает людей, окружающих малышка. Он высмеивает эгоизм родителей Тедди, озлобленность сестры, которая «ненавидит всех в этом океане», весьма нетактичное стремление «заглянуть во внутренний мир мальчика» Никольсона. В образе же десятилетнего провидца писатель изобразил свой эталон поведения человека, который постиг высшую мудрость самосозерцания.
Согласно утверждению мальчика, в прошлом воплощении он был в Индии чуть ли не святым, но, встретив женщину и полюбив ее, перестал заниматься самоусовершенствованием. Это привело к тому, что он оказался обреченным еще на одно перевоплощение, поскольку не выполнил основного условия джайнского аскетизма - ухода от мирской жизни. В противном случае он смог бы уже «слиться» с божественной субстанцией. Наказание же Тедди усугубляется, по мысли писателя, тем, что в новом воплощении он оказался американским мальчиком, ибо в Америке, как Тедди говорит Никольсону, «очень трудно заниматься самосозерцанием и жить духовной жизнью».
То, что рассказ «Тедди» завершает книгу «Девять рассказов» - не случайно. Вместе с первым рассказом о «рыбке-бананке» он как бы обрамляет ее. Тедди и Симор для Сэлинджера - основные положительные герои, и они противопоставляются населяющим книгу отрицательным персонажам. Оба они не свободны от чувства одиночества, ибо «идеальный американец» рассказов Сэлинджера столь же одинок и беспомощен, каким он был в произведениях американских писателей в 20-е - 30-е годы. Но Сэлинджер усматривает спасение от одиночества в приобщении к сокровищнице знаний и духовным идеалам, созданным человечеством на протяжении веков. Тедди обладает главным, по мнению Сэлинджера, качеством, необходимым человеку: он стремится осмыслить все встречающиеся ему в жизни явления, в силу чего способен относиться ко всяческим проявлениям зла с мудрым равнодушием и стоическим спокойствием (чего явно не хватает Симору).
Находясь по своему миропониманию на грани идеализма и материализма, писатель предлагает в книге «Девять рассказов» выход, отнюдь не заключающийся в отречении от мирских забот. Он, по-видимому, все же не зовет к переходу в некий, сулящий покой идеалистический мир духовного и телесного освобождения. Сэлинджер считает, что спасение человечества прежде всего состоит в стремлении к совершенству людской натуры и что такового можно достичь лишь путем постижения знаний, накопленных веками.
Разработке вопросов воспитания, накопления знаний, формирования личности посвящены Сэлинджером повести о Глассах, речь о которых в следующей главе.
| |
Джером Дэвид Сэлинджер (Jerome David Salinger, р. 1919) - автор повести «Над пропастью во ржи» (The Catcher in the Rye, 1951), ставшей культовой не только для 50-х годов, но и для последующих десятилетий. Кстати, книга была запрещена в нескольких европейских странах и в некоторых штатах США за депрессивность и употребление бранной лексики, но сейчас во многих американских школах входит в списки рекомендованной для чтения литературы.
Сын ирландки и еврея, Сэлинджер учится в самых разных заведениях, среди которых и нью-йоркские школы, и военное училище, и трех колледжа, ни один из которых так и не закончен. Писательскую карьеру начинает с публикации коротких рассказов в нью-йоркских журналах. Во время второй мировой войны писатель принимает участие в военных действиях американских войск в Европе с самого начала высадки в Нормандии, участвует в освобождении нескольких концлагерей.
Дебютировал в печати Сэлинджер в 1940 году, а к 1965 он опубликовал тридцать новелл (часть из которых отобрал для книги «Девять рассказов» (Nine Stories, 1953)) и несколько повестей: помимо «Ловца во ржи» (в русской традиции книгу упорно причисляют к жанру романа), цикл произведений о семействе Глассов («Выше стропила, плотники» (Raise High the Roof Beam, Carpenters, 1955; «Симор: введение» (Seymour: An Introduction, 1959); «Фрэнни и Зуи» (Franny and Zooey, 1961).
Сэлинджер не только «крупнейший из ныне здравствующих писателей» (Э.Уилсон), но и, пожалуй, самый загадочный из ныне живущих писателей: после оглушительного успеха романа начинает вести жизнь затворника, отказывается давать интервью, а после 1965 и совсем прекращает печататься, сочиняя только для себя. Более того, налагает запрет на переиздание ранних сочинений и пресекает несколько попыток издать его письма. В последние годы он практически никак не взаимодействует с внешним миром, живя в особняке за высокой оградой в городке Корниш, штат Нью-Хэмпшир, и занимаясь разнообразными духовными практиками (буддизм, индуизм, йога, макробиотика, дианетика и т.п.).
По сведениям разной степени достоверности, Сэлинджер не прекратил писать. Так, журналистка Д.Мэйнард утверждает, что к 1972 году он закончил два романа. Дочь писателя Маргарет в своих мемуарах, опубликованных в 2000 году, также подтверждает, что дом в Корнише завален рукописями и что писатель разработал сложную систему меток: красная – «опубликовать после моей смерти без редактирования», синяя – «опубликовать после моей смерти, предварительно отредактировав» и так далее.
В 2009 году шведско-американский писатель Джон Дэвид Калифорния (John David California) опубликовал ни много ни мало продолжение самого знаменитого романа Сэлинджера, назвав его «60 лет спустя: пробираясь сквозь рожь». Сильно «повзрослевший» герой романа, 76-летний Холден Колфилд, сбегает из дома престарелых и бродит по Нью-Йорку. Сэлинждер не оценил красоты и креативности замысла и подал на автора новоиспечённого романа в суд.
Сэлинждер завоевал популярность у русских читателей благодаря талантливейшим переводам Риты Райт-Ковалёвой. Повесть «Над пропастью во ржи» (так перевела ее название переводчица) поистине была культовой книгой многих поколений советских читателей.