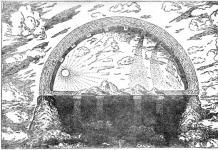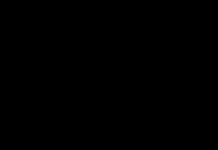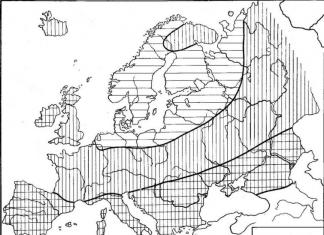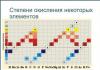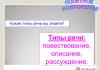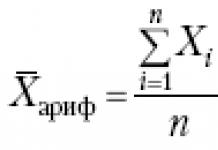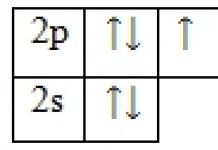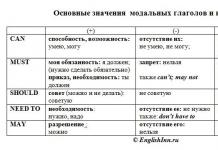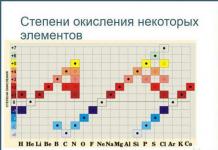Алогизм (от гр. а — частица отрицания и logismos — разум) — поэтический прием, основанный на смысловом противоречии. «Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный: "Будьте добры, причешите мне уши"» (В. Маяковский).
Там груши — треугольные. Ищу в них души голые.
(А. Вознесенский. «Вступительное»)
В судах их клевреты наглые, из рюмок дуя бензин, вычисляют: кто это в Англии ввёл бунт против машин?
(А. Вознесенский. «Отступления в виде монологов битников»)
В приведенных примерах резкая парадоксальность мысли оттеняет образ.
Алогизм может служить средством усиления авторской идеи.
красотищи, этой,
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
штыка революции
пляша под распевку,
санкюлоты
поволокли
На эшафот
королеву.
(В. Маяковский. «Версаль»)
Сближая несоединимые по смыслу понятия, поэт может достигнуть высокой эмоциональной выразительности образа.
Я жить хочу!
Хочу печали
Любви и счастию назло...
(М. Лермонтов)
В романтической лирике алогизм часто строится по принципу антитезы:
Слезами и тоской
Заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.
(М. Лермонтов. «Отчего»)
Произведение может быть целиком построено на алогизмах. Таково стихотворение С. Есенина «Кобыльи корабли».
При подчеркнутой несовместимости понятий фраза в алогизме (в отличие от анаколуфа) строится в соответствии с грамматическими нормами языка.
Введение в литературоведение (Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин и др.) / Под ред. Л.М. Крупчанова. — М, 2005 г.
Наряду с посрамлением воли по внешним и внутренним причинам имеются случаи, когда посрамлению подвергается недостаток ума. Глупость, неспособность элементарно правильно наблюдать, связывать причины и следствия вызывает смех.
В литературно-художественных произведениях также, как и в жизни, алогизм бывает двоякий: люди или говорят несуразное, или совершают глупые поступки. Однако при ближайшем рассмотрении такое деление имеет только внешнее значение. Оба случая могут быть сведены к одному. В первом из них мы имеем неправильный ход мыслей, который вызывается словами, и эти слова вызывают смех. Во втором - неправильное умозаключение словами не высказывается, но проявляет себя в поступках, которые и служат причиной смеха
Алогизм бывает явный и скрытый. В первом случае алогизм комичен сам по себе для тех, кто видит или слышит его проявление. Во втором случае требуется разоблачение и смех наступит в момент этого разоблачения.
Для действующего субъекта разоблачение обычно наступает только тогда, когда он испытывает последствия своей глупости на собственной шкуре. Для наблюдателя, зрителя, читателя разоблачение скрытого алогизма может совершиться в форме остроумной и неожиданной реплики собеседника, который своим ответом вскрывает несостоятельность суждения говорящего.
В жизни алогизм, - пожалуй, наиболее часто встречающийся вид комизма. Неумение связывать следствие и причины оказывается очень распространенным и встречается чаще, чем можно было бы думать. Здесь стоит вспомнить уже приведенные слова Чернышевского: «Глупость - главный предмет наших насмешек, главный источник комического» (Чернышевский, II, 187). Есть и другие теоретики, которые подчеркивают значение глупости для определения сущности комизма. Кант считал, что во всем, что должно возбуждать громкий смех, «должно быть нечто, противное разуму» (Кант, V, 352). Жан Поль, наряду с другими объяснениями, определяет комическое как «чувственно воспринимаемое бесконечно неразумное» (Жан Поль, 139). Добролюбов считал глупость действующих лиц основным признаком комедии. Если бы городничий и Хлестаков были умнее, комедии не было бы: «Комедия… выставляет на посрамление хлопоты человека для избежания затруднений, созданных и поддержанных его же глупостью» (Добролюбов, 1, 392). Д. Николаев считает, что Добролюбов здесь ошибается и что дело не в биологической глупости, а в том, что городничий - социально отрицательный тип»». Но глупость есть средство возбуждения смеха, а Гоголь писал комедию, а не трактат. Глупость и социальная вредность не исключают одна другую: глупость есть средство изобличения вредности. Вулис по этому поводу пишет, что «в сущности, веселый юмористический смех - своеобразная защита от дурака, социальный фактор, отсеивающий те на первый взгляд непринципиальные ошибки и пороки, которые, стань они нормой, были бы настоящим бедствием» (Вулис, 19). Конечно, сплошная глупость была бы бедствием, но Гоголь борется не против глупости, а против того общественного уклада, который создает городничих, подобных Антону Антоновичу, и чиновников, помещичьих сынков, подобных Хлестакову; глупость же их есть комедийно-сатирическое средство осмеяния.
Проявление алогизма подчинено тем же законам комического, что и другие проявления его. Ник. Гартман в своей «Эстетике» говорит: «Комично не простое невежество, а такое, которое еще не выяснено» (Гартман, 619). Но это неверно. Скрытое, никому не заметное невежество не может быть комичным. Смех возникает в тот момент, когда скрытое невежество вдруг проявляется в словах или поступках глупца, т, е. становится очевидным для всех, выливается в чувственно воспринимаемые формы, Можно дать и другое определение: комический алогизм можно понять как механизм мысли, преобладающий над содержанием ее.
Этого условия нет, когда, например, ученый допускает ошибку в вычислении или когда врач ставит ошибочный диагноз и т, д, Такие ошибки ума не комичны, так как не представляют собой механического алогизма.
Мы не будем стремиться к строгой систематизации, так как в данном случае она не вскрывает сути дела, а приведем несколько показательных случаев разного характера.
У Гоголя этот вид комизма встречается очень часто. Коробочка, уже готовая уступить Чичикову мертвые души, робко замечает: «А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся» - чем совершенно выводит из терпения Чичикова Можно, заметить, что многие из гоголевских персонажей - Хлестаков, Бобчинский и Добчинский, Ноздрев, Коробочка и другие, - не умеют толково связать двух слов и рассказать сколько-нибудь вразумительно, что произошло. Бобчинский, рассказывая, как он впервые увидел Хлестакова, приплетает сюда и Растаковского, и Коробкина, и какого-то Почечуева, у которого «желудочное трясение», и подробно описывает, как и где он встретился с Добчинским («возле будки, где продаются пироги»), что не имеет к делу никакого отношения, Он сплетает целую цепь умозаключений, из которых будто бы с очевидностью явствует, что приезжий, несомненно, ревизор, Рассказ Бобчинского о приезде Хлестакова - образец сбивчивости и бестолковости. Он не умеет выделить главного. Вообще ход рассуждений гоголевских персонажей бывает самый неожиданный. Две дамы думают, что мертвые души означают, будто Чичиков хочет увезти губернаторскую дочку; почтмейстер убежден, что Чичиков - это капитан Копейкин, и толыко потом вспоминает, что Копейкин - инвалид без руки и ноги, а Чичиков совершенно здоров. Алогизм выступает особенно ярко тогда, когда он применяется как попытка оправдать какие-нибудь свои не совсем безупречные поступки.
Сюда относятся слова городничего об унтер-офицерской вдове: «Она сама себя высекла», - или слова заседателя в «Ревизоре», от которого всегда пахнет водкой и который объясняет это тем, что в «детстве мамка его ушибла, и с тех пор отдает от него немного водкою». Когда баба в повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем выносит проветривать не толыко нанковые шаровары Ивана Никифоровича и. прочую ветошь, но и ружье, то это типичный случай алогизма действий, основанный на подсознательном заключении по аналогии.
Комические старухи в комедиях часто наделяются глупостью. В комедии Островского «Правда - хорошо, а счастье лучше» Мавра Тарасовна говорит о человеке, которого считает умершим, но о котором ей сообщают, что он жив, так: «Никак нельзя, ему живым быть, потому я уж лет двадцать за упокой его души подаю: так нешто может это человек выдержать.
Хотя логика учит, что заключения по аналогии не имеют познавательного значения, в жизни именно такого рода рассуждения встречаются особенно часто. Ребенок мыслит прежде всего аналогиями и только много позже научается задумываться о подлинных причинах окружающих его явлений. Вот пример: бабушка накладывает внуку салат и поливает его растительным маслом, Мальчик спрашивает
Бабушка, ты и меня маслом польешь?
Чуковский в своей книге «От двух до пяти» собрал материал, относящийся к детскому языковому творчеству. Не менее интересно было бы собрать факты, относящиеся к детской логике. Но то, что в логике детей есть свидетельство каких-то первых, наивных мыслительных поисков, каких-то попыток связать явления, разобраться в мире, то в логике взрослых - только смехотворные ошибки.
Алогизмы широко применяются в клоунадах, Борис Вяткин выходил. на арену со своей маленькой собачкой Манюнечкой, ведя ее на коротком и толстом корабельном канате, что сразу вызывало радостный смех зрителей. Этот случай как бы прямо подтверждает теорию Гегеля: «Комическим… может стать всякий контраст цели и средств». Толстый канат - совершенно непригодное средство для вождения маленькой собачки. Контраст средства и цели вызывает смех,
Во всех подобных случаях алогизм как бы лежит на по. верхности и сам себя раскрывает для зрителя, слушателя или читателя через явно глупые поступки или слом. Но. алогизм может быть скрытым и на первый взгляд совершенно незаметным. Кто-нибудь один его замечает и изобличает в какой-нибудь реплике, которая сразу вскрывает глупость и вызывает смех.
Такие реплики требуют наблюдательности и талантливости. Они - ответ острого ума на проявление глупости. Способность давать такие ответы - один из, видов остроумия, Широко рассказывается следующий случай из жизни Бернарда Шоу, выдаваемый за действительность. Он получил письмо следующего содержания:
«Я - самая красивая женщина Англии, Вы - самый умный мужчина. По-моему, нам следует иметь ребенка».
На что последовал следующий ответ:
«А что, если наш отпрыск наследует мою красоту и Ваш ум?»
Сходный, но все же несколько иной анекдот перепечатан в журнал «Наука и жизнь (1966, № 3).
«Разгневанная леди:
Ну знаете, если бы я была вашей женой, я всыпала бы вам в утренний кофе яду!
Джентльмен:
Если бы я был вашим мужем, я бы с наслаждением выпил этот яд!»
Алогизм как художественный прием возбуждения комизма особенно часто встречается в фольклоре. Здесь он, можно сказать, система.
Начиная со средних веков и эпохи Возрождения и гуманизма, когда во всей Европе начали издаваться сборники фабльо, жарт, фацеции, шванков, частично переходивших в классическую литературу (Чосер, Боккаччо), и кончая экспедициями, которые по сегодняшний день привозят богатейший материал, этот вид фольклора продолжает жить и оказывается бессмертным. На Востоке была создана фигура Насреддина, веселого остроумца, прикидывающегося про стаком. Фигура. эта обошла все страны Ближнего Востока и жива по сегодняшний день. Не все в фольклоре равно остро умно и комично, но здесь можно найти истинные перлы.
Мы коротко остановимся на русском фольклоре. Количество различных сказок о дураках, глупцах и. простаках чрезвычайно велико. Но это происходит не потому, что в жизни много дураков и что народ хочет их высмеять. Это объясняется тем, что очевидная или разоблачаемая глупость вызывает здоровый и доставляющий удовольствие смех… Этот смех бичует глупцов, но мнение некоторых исследователей, будто эти сказки имеют сознательную сатирическую направленность и преследуют цель активной борьбы с глупостью, нельзя признать правильным. Есть несколько типов сказочного фольклора, в которых главные герои дураки. Один из видов таких сказок посвящен обитателям одной какой-нибудь местности. В Древней Греции - это жители Абдеры, абдериты, у немцев недалекими слывут швабы. Народная книга о семи швабах - одна из самых веселых народных книг. О подобных книгах молодой Энгельс писал: «Это остроумие, эта естественность замысла и исполнения, добродушный юмор, сопровождающий всегда едкую насмешку, чтобы она не стала слишком злой, поразительная комичность gоложений - все это, по правде сказать, способно заткнуть за пояс значительную часть нашей литературы» (Маркс, Энгельс, I). нас недалекими почему-то слывут жители бывшего Пошехонского уезда Ярославской губернии. Впрочем, возможно, что это приурочение идет вовсе не от фольклора, а от книги В. Березайского «Анекдоты древних пошехонцев с присовокуплением забавного словаря» (1798 г.). Ни в одном из русских сказочных сборников пошехонцев нет, о них не упоминается. Сущность сюжетов о таких простаках сводится к рассказам о глупых поступках. Такие простаки сеют соль, пытаются доить кур, носят свет в мешках, вгоняют лошадь в хомут, вместо того чтобы надеть его на нее, впрыгивают в штаны, рубят сук, на котором сидят, и т. д. Они покупают на ярмарке ружье, заряжают его, желая проверить, как оно стреляет; один из них заглядывает в дулоон хочет увидеть, как вылетит пуля. Все это относится к тому разряду случаев, который мы выше назвали алогизмом действий.
В приведенных случаях дурость - явление, так сказать, коллективное. Она охватывает всех жителей одной местности или вообще нескольких человек одновременно. Другой тип сказок - это сказки о глупых поступках отдельных людей. Жалостливая, но глупая баба, сидя на возу, часть поклажи берет на колени, чтобы лошади было легче. Такие рассказы можно отнести к народным анекдотам. Но есть и более развитые сюжеты.
В одной из сказок братья посылают дурака в город за покупками. «Всего закупил Иванушко: и стол купил, и ложек, и чашек, и соли; целый воз навалил всякой всячины». Казалось бы, все хорошо. Но сказочные дураки обладают одним свойством: они жалостливы. Эта жалостливость побуждает их к совершенно неразумным поступкам. В данном случае лошадь худая и выбивается из сил. «А что, думает себе Иванушко, ведь у лошади четыре ноги и у стола тоже четыре; так стол-от и сам добежит!» Взял стол и выставил на дорогу. В дальнейшем всю провизию он скармливает воронам, горшки он надевает на пни, чтоб не зябли и т. д. Братья его избивают.
Сказка эта во многих отношениях очень интересна. Дурак видит мир искаженно и делает неправильные умозаключения. Этим он смешит слушателей. Но внутренние побуждения его - самые лучшие. Он всех жалеет, готов отдать от себя последнее и тем невольно вызывает сочувствие. Этот дурак лучше многих умников,
Этого не скажешь о сказке «Набитый дурак". Мать говориг сыну: «Ты бы пошел, сынок, около людей потерся, да ума набрался». Он проходит мимо двух мужиков, которые молотят горох, и начинает об них тереться. Они его избивают. Мать учит его: «Ты бы сказал им: бог в помощь, добрые люди! Носить бы вам не переносить, возить бы не перевозить». Дурак встречает похороны и произносит пожелание, которому его учила мать. Его опять избивают. Поучение матери, что надо было сказать «канун да ладан», он произносит на свадьбе (канун = панихида), и его опять избивают. Сказка эта очень популярна и известна во множестве вариантов. Дурак этой сказки услужлив, доброжелателен, хочет всем угодить. Но он всегда опаздывает, прошлое применяет к настоящему и, несмотря на всю услужливость, у всех вызывает гнев и получает только побои. Ленин ссылается на эту сказку для характеристики деятелей, которые не умеют ориентироваться в настоящем и, руководствуясь тем, что уже прошло, все делают невпопад.
Другой пример. Девушка идет на реку выполаскивать швабру. На том берегу - деревня, в которой живет ее жених. Она представляет себе, как у нее родится сын, как он пойдет на лед, провалится и утонет. Она начинает выть и причитать. Приходят отец, мать, дедка, бабка и другие и, выслушав рассказ, начинают тоже выть. На этот вой выходит жених и, узнав в чем дело, уходит по свету искать, найдет ли кого-нибудь глупее своей невесты, - и обычно находит.
Многие сюжеты о дураках сочетаются с мотивами одурачивания. Сказки о дураках, неотделимы от сказок о ловких хитрецах. У старухи помер сын. К ней напрашивается ночевать солдат, который называет себя «Наконец, с того свету выходец» и берется доставить сыну на тот свет рубашку, холста и всяких припасов. Старуха ему верит, и солдат уносит подарки для сына с собой.
Иное явление представляет собой Иван-дурак - герой волшебных сказок. Он дурак только поначалу: он сидит на печи, «в саже и соплях запатрался», и все над ним смеются. Но именно этот-то дурак впоследствии оказывается умнее своих братьев и совершает различные сказочно-героические подвиги. В этом есть своя философия. В герое волшебных сказок есть самое важное: душевная красота и моральная сила.
Впрочем, сказки о глупцах также обладают своей философией. Дураки в конечном итоге вызывают симпатию и сочувствие слушателей, Дурак русских сказок обладает нравственными достоинствами, и это важнее наличия внешнего ума.
4 / 5 ( 6 голосов )
В литературе и повседневной жизни часто приходится сталкиваться с неправильным употреблением различных слов, метафор, эпитетов, некорректным построением предложений и структуры текста в целом, из-за чего воспринимать и оценивать информацию сложно. Для определения такого явления есть специальный термин — алогизм. Что означает это понятие, откуда оно пришло? Что такое алогизм в языке и литературе, его типы и примеры использования? Обо всем этом не помешает узнать не только тем, чья деятельность связана с написанием и зачитыванием текстов, но и всем, кто хочет научиться выражать свои мысли правильно, красиво и содержательно.
Что значит алогизм вообще
Алогизм – слово греческого происхождения, основанное из предлога отрицания «а» (в переводе на русский «не») и корня «логоз», то есть, разум, последовательное мышление, логика. Сопоставив эти две части, несложно понять, что алогизм означает непоследовательное мышление, необъяснимый с точки зрения логики ход мыслей, рассуждений, идущий вразрез с действительностью и поступками.
Часто алогизм вводят с целью скрыть истинные события, для оправдания или объяснения необдуманным действиям. Иногда это факты или формальное определение чего–либо, противоречащие формально установленным стандартам и логической цепочке умозаключений. Алогизм делится на такие типы:
- Намеренный тип – когда ошибка, выявленная при логическом анализе рассуждений, преследует определенную цель. В этом случае речь идет о софизме.
- Ненамеренный тип – когда ошибка допущена случайно. Тогда говорят о паралогизме.
Пример несложно обнаружить, исследуя законодательство, различные кодексы, юридические справки, судебные показания, другую документацию. Очень часто алогизмы фиксируются в экспромтах и спонтанных интервью.
Что означает в русском языке слово «алогизм»
В русском языке понятие «алогизм» — намеренное, осмысленное введение нелепых речевых оборотов, не несущих никакой смысловой нагрузки, не связанных по логике с другими частями текста. Это может быть просто интуитивная форма высказывания, бессодержательная, бессвязная. Если алогизмы выкинуть из текста – суть от этого не пострадает. Но уйдет оттенок гротеска, ироничный тон, сарказм.
Существует ассоциативный тип алогизмов – рассказ, построенный по принципу «что вижу, то и пишу». Делается это с целью показать читателю комизм, иронию ситуации или нелепость героя произведения, чтобы определить позиции автора – насмешливую, снисходительную или же презрительную.
Алогизмы используются, чтобы вызвать смех, развеселить читателя и слушателя. Скрытая ирония или же раскрывается сразу, в самих словах, или разъясняться потом.
Алогизм – примеры использования в русском языке
В русском языке и литературных произведениях алогизм используется, когда требуется донести до читателя комичность ситуации. Классические примеры алогизма распространены в русском фольклоре, сатирических и иронических рассказах. Есть он в загадках, баснях, современных считалочках и стихах – у Чуковского , Козьмы Пруткова , Пушкина . Иногда с помощью алогизмов заполняются логические пустоты в повествовании.
Яркий пример алогизма: вступления, присказки к народным сказкам, поcловицы и поговорки.
Используя алогизмы в повседневной речи, нужно быть осторожным, чтобы не показаться безграмотным или грубым человеком. Или же отказаться от них и использовать другой речевой стиль.
Дразнил я учителку коброю
Настигла расплата сполна -
Разумное, вечное, доброе
Мне в голову вбила она.
В литературно-художественных произведениях так же, как и в жизни, алогизм бывает двоякий: люди или говорят несуразное, или совершают глупые поступки. (Алогизмы - это ещё и выразительное средство речи, художественный приём).
В жизни алогизм, — пожалуй, наиболее часто встречающийся вид комизма. Неумение связывать следствие и причины оказывается очень распространенным и встречается чаще, чем можно было бы думать.
У Гоголя этот вид комизма встречается очень часто. Коробочка, уже готовая уступить Чичикову мертвые души, робко замечает: «А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся» — чем совершенно выводит из терпения Чичикова Можно, заметить, что многие из гоголевских персонажей — Хлестаков, Бобчинский и Добчинский, Ноздрев, Коробочка и другие, — не умеют толково связать двух слов и рассказать сколько-нибудь вразумительно, что произошло. Бобчинский, рассказывая, как он впервые увидел Хлестакова, приплетает сюда и Растаковского, и Коробкина, и какого-то Почечуева, у которого «желудочное трясение», и подробно описывает, как и где он встретился с Добчинским («возле будки, где продаются пироги»), что не имеет к делу никакого отношения, Он сплетает целую цепь умозаключений, из которых будто бы с очевидностью явствует, что приезжий, несомненно, ревизор, Рассказ Бобчинского о приезде Хлестакова — образец сбивчивости и бестолковости. Он не умеет выделить главного. Вообще ход рассуждений гоголевских персонажей бывает самый неожиданный. Две дамы думают, что мертвые души означают, будто Чичиков хочет увезти губернаторскую дочку; почтмейстер убежден, что Чичиков — это капитан Копейкин, и толыко потом вспоминает, что Копейкин — инвалид без руки и ноги, а Чичиков совершенно здоров. Алогизм выступает особенно ярко тогда, когда он применяется как попытка оправдать какие-нибудь свои не совсем безупречные поступки.

Сюда относятся слова городничего об унтер-офицерской вдове: «Она сама себя высекла», — или слова заседателя в «Ревизоре», от которого всегда пахнет водкой и который объясняет это тем, что в «детстве мамка его ушибла, и с тех пор отдает от него немного водкою». Когда баба в повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем выносит проветривать не толыко нанковые шаровары Ивана Никифоровича и. прочую ветошь, но и ружье, то это типичный случай алогизма действий, основанный на подсознательном заключении по аналогии.
Комические старухи в комедиях часто наделяются глупостью. В комедии Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» Мавра Тарасовна говорит о человеке, которого считает умершим, но о котором ей сообщают, что он жив, так: «Никак нельзя, ему живым быть, потому я уж лет двадцать за упокой его души подаю: так нешто может это человек выдержать.

Хотя логика учит, что заключения по аналогии не имеют познавательного значения, в жизни именно такого рода рассуждения встречаются особенно часто. Ребенок мыслит прежде всего аналогиями и только много позже научается задумываться о подлинных причинах окружающих его явлений. Вот пример: бабушка накладывает внуку салат и поливает его растительным маслом, Мальчик спрашивает
— Бабушка, ты и меня маслом польешь?
Чуковский в своей книге «От двух до пяти» собрал материал, относящийся к детскому языковому творчеству. Не менее интересно было бы собрать факты, относящиеся к детской логике. Но то, что в логике детей есть свидетельство каких-то первых, наивных мыслительных поисков, каких-то попыток связать явления, разобраться в мире, то в логике взрослых — только смехотворные ошибки.

Алогизмы широко применяются в клоунадах, Борис Вяткин выходил. на арену со своей маленькой собачкой Манюнечкой, ведя ее на коротком и толстом корабельном канате, что сразу вызывало радостный смех зрителей. Этот случай как бы прямо подтверждает теорию Гегеля: «Комическим… может стать всякий контраст цели и средств». Толстый канат — совершенно непригодное средство для вождения маленькой собачки. Контраст средства и цели вызывает смех,
Во всех подобных случаях алогизм как бы лежит на по. верхности и сам себя раскрывает для зрителя, слушателя или читателя через явно глупые поступки или слом. Но. алогизм может быть скрытым и на первый взгляд совершенно незаметным. Кто-нибудь один его замечает и изобличает в какой-нибудь реплике, которая сразу вскрывает глупость и вызывает смех.

Такие реплики требуют наблюдательности и талантливости. Они — ответ острого ума на проявление глупости. Способность давать такие ответы — один из, видов остроумия, Широко рассказывается следующий случай из жизни Бернарда Шоу, выдаваемый за действительность. Он получил письмо следующего содержания:
«Я — самая красивая женщина Англии, Вы — самый умный мужчина. По-моему, нам следует иметь ребенка».
На что последовал следующий ответ:
«А что, если наш отпрыск наследует мою красоту и Ваш ум?»
Сходный, но все же несколько иной анекдот перепечатан в журнал «Наука и жизнь (1966, № 3).
«Разгневанная леди:
— Ну знаете, если бы я была вашей женой, я всыпала бы вам в утренний кофе яду!
Джентльмен:
— Если бы я был вашим мужем, я бы с наслаждением выпил этот яд!»
Алогизм как художественный прием возбуждения комизма особенно часто встречается в фольклоре. Здесь он, можно сказать, система.

Начиная со средних веков и эпохи Возрождения и гуманизма, когда во всей Европе начали издаваться сборники фабльо, жарт, фацеции, шванков, частично переходивших в классическую литературу (Чосер, Боккаччо), и кончая экспедициями, которые по сегодняшний день привозят богатейший материал, этот вид фольклора продолжает жить и оказывается бессмертным. На Востоке была создана фигура Насреддина, веселого остроумца, прикидывающегося про стаком. Фигура. эта обошла все страны Ближнего Востока и жива по сегодняшний день. Не все в фольклоре равно остро умно и комично, но здесь можно найти истинные перлы.
Мы коротко остановимся на русском фольклоре. Количество различных сказок о дураках, глупцах и. простаках чрезвычайно велико. Но это происходит не потому, что в жизни много дураков и что народ хочет их высмеять. Это объясняется тем, что очевидная или разоблачаемая глупость вызывает здоровый и доставляющий удовольствие смех… Этот смех бичует глупцов, но мнение некоторых исследователей, будто эти сказки имеют сознательную сатирическую направленность и преследуют цель активной борьбы с глупостью, нельзя признать правильным. Есть несколько типов сказочного фольклора, в которых главные герои дураки. Один из видов таких сказок посвящен обитателям одной какой-нибудь местности. В Древней Греции — это жители Абдеры, абдериты, у немцев недалекими слывут швабы. Народная книга о семи швабах — одна из самых веселых народных книг. О подобных книгах молодой Энгельс писал: «Это остроумие, эта естественность замысла и исполнения, добродушный юмор, сопровождающий всегда едкую насмешку, чтобы она не стала слишком злой, поразительная комичность gоложений — все это, по правде сказать, способно заткнуть за пояс значительную часть нашей литературы» (Маркс, Энгельс, I).
У нас недалекими почему-то слывут жители бывшего Пошехонского уезда Ярославской губернии. Впрочем, возможно, что это приурочение идет вовсе не от фольклора, а от книги В. Березайского «Анекдоты древних пошехонцев с присовокуплением забавного словаря» (1798 г.). Ни в одном из русских сказочных сборников пошехонцев нет, о них не упоминается. Сущность сюжетов о таких простаках сводится к рассказам о глупых поступках. Такие простаки сеют соль, пытаются доить кур, носят свет в мешках, вгоняют лошадь в хомут, вместо того чтобы надеть его на нее, впрыгивают в штаны, рубят сук, на котором сидят, и т. д. Они покупают на ярмарке ружье, заряжают его, желая проверить, как оно стреляет; один из них заглядывает в дулоон хочет увидеть, как вылетит пуля. Все это относится к тому разряду случаев, который мы выше назвали алогизмом действий.
В приведенных случаях дурость — явление, так сказать, коллективное. Она охватывает всех жителей одной местности или вообще нескольких человек одновременно. Другой тип сказок — это сказки о глупых поступках отдельных людей. Жалостливая, но глупая баба, сидя на возу, часть поклажи берет на колени, чтобы лошади было легче. Такие рассказы можно отнести к народным анекдотам. Но есть и более развитые сюжеты.

В одной из сказок братья посылают дурака в город за покупками. «Всего закупил Иванушко: и стол купил, и ложек, и чашек, и соли; целый воз навалил всякой всячины». Казалось бы, все хорошо. Но сказочные дураки обладают одним свойством: они жалостливы. Эта жалостливость побуждает их к совершенно неразумным поступкам. В данном случае лошадь худая и выбивается из сил. «А что, думает себе Иванушко, ведь у лошади четыре ноги и у стола тоже четыре; так стол-от и сам добежит!» Взял стол и выставил на дорогу. В дальнейшем всю провизию он скармливает воронам, горшки он надевает на пни, чтоб не зябли и т. д. Братья его избивают.
Сказка эта во многих отношениях очень интересна. Дурак видит мир искаженно и делает неправильные умозаключения. Этим он смешит слушателей. Но внутренние побуждения его — самые лучшие. Он всех жалеет, готов отдать от себя последнее и тем невольно вызывает сочувствие. Этот дурак лучше многих умников,

Этого не скажешь о сказке «Набитый дурак". Мать говориг сыну: «Ты бы пошел, сынок, около людей потерся, да ума набрался». Он проходит мимо двух мужиков, которые молотят горох, и начинает об них тереться. Они его избивают. Мать учит его: «Ты бы сказал им: бог в помощь, добрые люди! Носить бы вам не переносить, возить бы не перевозить». Дурак встречает похороны и произносит пожелание, которому его учила мать. Его опять избивают. Поучение матери, что надо было сказать «канун да ладан», он произносит на свадьбе (канун = панихида), и его опять избивают. Сказка эта очень популярна и известна во множестве вариантов. Дурак этой сказки услужлив, доброжелателен, хочет всем угодить. Но он всегда опаздывает, прошлое применяет к настоящему и, несмотря на всю услужливость, у всех вызывает гнев и получает только побои. Ленин ссылается на эту сказку для характеристики деятелей, которые не умеют ориентироваться в настоящем и, руководствуясь тем, что уже прошло, все делают невпопад.
Другой пример. Девушка идет на реку выполаскивать швабру. На том берегу — деревня, в которой живет ее жених. Она представляет себе, как у нее родится сын, как он пойдет на лед, провалится и утонет. Она начинает выть и причитать. Приходят отец, мать, дедка, бабка и другие и, выслушав рассказ, начинают тоже выть. На этот вой выходит жених и, узнав в чем дело, уходит по свету искать, найдет ли кого-нибудь глупее своей невесты, — и обычно находит.
Многие сюжеты о дураках сочетаются с мотивами одурачивания. Сказки о дураках, неотделимы от сказок о ловких хитрецах. У старухи помер сын. К ней напрашивается ночевать солдат, который называет себя «Наконец, с того свету выходец» и берется доставить сыну на тот свет рубашку, холста и всяких припасов. Старуха ему верит, и солдат уносит подарки для сына с собой.
Иное явление представляет собой Иван-дурак — герой волшебных сказок. Он дурак только поначалу: он сидит на печи, «в саже и соплях запатрался», и все над ним смеются. Но именно этот-то дурак впоследствии оказывается умнее своих братьев и совершает различные сказочно-героические подвиги. В этом есть своя философия. В герое волшебных сказок есть самое важное: душевная красота и моральная сила.
Впрочем, сказки о глупцах также обладают своей философией. Дураки в конечном итоге вызывают симпатию и сочувствие слушателей, Дурак русских сказок обладает нравственными достоинствами, и это важнее наличия внешнего ума.
Узкое понимание алогизма как экспрессивно значимого явления приписывает ему статус стилистического приема, близкого к оксюморону, представляющего собой "умышленное нарушение в литературном произведении логических связей с целью подчеркнуть внутреннюю противоречивость данного положения (драматического или комического)" (Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. М., 1998. С. 23-24; Граудина Л. К., Кочеткова Г. И. Русская. М., 2001. С. 656; Никитина С. Е., Васильева Н. В. Экспериментальный системный толковый словарь. М., 1996. С. 38). Причем не разъясняется, что следует понимать под логическими связями.Кроме нарушения логических связей, в определение алогизма включаются иногда признаки "непредсказуемого совмещения понятий" (Песков А. М. Алогизм // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 20); "сочетания противоречивых понятий" (Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М., 1974. С. 13); "соединения в форме перечисления логически неоднородных понятий" (Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителя. М., 1985. С. 14); "противоречия предмета или события с нашими обычными представлениями" (Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В. И. Новиков, Е. А. Шкловский. М., 1998. С. 13). Последний признак алогизма некоторыми авторами разъясняется так: "А. особенно ощутим, когда он нарушает "естественное" представление о предмете, явлении ("арбуз - в семьсот рублей", "суп... из Парижа", о которых рассказывает Хлестаков в "Ревизоре" Н. В. Гоголя) и возникает внутри логически мотивированного отрезка текста (ср. сопоставит. характеристику Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича в повести Гоголя "Как поссорились...")" (Песков А. М. Указ. соч. С. 20).
Такая трактовка алогизма выводит его за пределы области нарушения чисто логических связей в область нарушений связей онтологических. Это объясняет существенные различия в иллюстрациях алогизма, приводимых разными авторами: "Лев Саввич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную плешь, как-то играл на именинах у приятеля в винт" (Чехов). Этот пример алогизма, приводимый Д. Э. Розенталем и М. А. Теленковой, демонстрирует нарушение логической однородности перечисления (в ряд однородных членов предложения поставлены несопоставимые понятия, то есть настолько далекие друг от друга, что у них нет общих признаков).
Ехала деревня / Мимо мужика.
Вдруг из подворотни / Лают ворота.
- Тпр! - сказала лошадь, / А мужик заржал.
Лошадь пошла в гости, / А мужик стоял...
(Фольклор).
В этом примере, приводимом А. П. Квятковским, имеет место нарушение онтологической нормы (нормальной "картины мира"), поэтому приемы такого рода, с нашей точки зрения, корректнее определять как параонтологические (См.: Сковородников А. П., Копнина Г. А. Об определении понятия "риторический прием" // Филологические науки. 2002. N 2. С. 77-79; Сковородников А. П. О системном описании понятия "стилистическая фигура" // Русская речь. 2002. N 4. С. 64-66). Это утверждение будет справедливым и тогда, когда логика понимается широко - как "усмотрение связей не только мышления, но и бытия", как "логика вещей, логика событий, связь времен", поскольку такое понимание логики сближает ее с онтологией (Кемеров В. Е. Норма // Современный философский словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова. Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск / "ПАН-ПРИНТ", 1998. С. 450).
Предельно широкое понимание алогизма как общего закона построения тропов и фигур представлено, например, в "" Е. В. Клюева, по мнению которого, "у паралогики, "неправильно эксплуатирующей логику", были все основания стать почвой для элокуции" (Клюев Е. В.
Е. В. Клюев пишет: "Заманчиво было бы предположить, что построение сообщения в соответствии с логическими законами и построение сообщения в соответствии с теорией фигур, в сущности, один и тот же процесс " (Клюев Е. В. Указ. соч. С. 168. Курсив автора цитаты). Такое расширительное понимание паралогичности приводит во многих случаях к сомнительности трактовок сущности фигур и/или неубедительности иллюстраций. Рассмотрим несколько таких трактовок и примеров, взятых из цитированной работы Е. В. Клюева.
Так, трудно усмотреть паралогический климакс в таких высказываниях: "Увы, существует и такая прогрессия: сигарета, болезнь, смерть"; "Сначала становятся мэром, потом миллионером, потом заключенным". В первом примере не нарушен ни один закон логики, а стилистический эффект достигается благодаря градационному построению перечислительного ряда, усиленному асиндетоном. Во втором примере можно усмотреть паралогику, но она является не результатом использования климакса (его здесь нет), а следствием приема обманутого ожидания, который можно интерпретировать как намеренное нарушение закона достаточного основания и который усилен парономазией.
Еще труднее признать паралогической фигурой изоколон (например: "Жизнь дорожает, работы не найти, деньги на исходе, жена беременна... бедные мои современники!") на том основании, что в нем, по мнению Клюева, "нарушение логического правила - не группировать однотипные предложения - оборачивается соблюдением паралогического правила, в соответствии с которым группа однотипных предложений воспринимается как заслуживающая особого внимания" (Клюев Е. В. Указ. соч. С. 240). Мы полагаем, что экспрессивность изоколона (способность привлекать внимание) объясняется не нарушением логического правила, а тем, что он (изоколон) представляет собой стилистически значимое отклонение от речевой нормы (стандартного уровня упорядоченности речи-текста).
Расширительное понимание паралогики (алогизма) связано и с признанием синтаксиса "репрезентантом логики на уровне структурирования сообщения" (Клюев Е. В. Указ. соч. С. 179). Отсюда признание паралогичными (всех синтаксических фигур, к примеру, полисиндетона ("И художник, и богатые заказчики, и друзья богатых заказчиков, и супруга художника - все довольны"). Между тем, с нашей точки зрения, в полисиндетоне имеет место не логическая аномалия, а стилистически значимое отклонение от нейтрального варианта ("нулевой ступени") синтаксической нормы. Можно сказать, что безоговорочное признание синтаксиса репрезентантом логики на уровне структуры предложения и текста ведет к отождествлению логического и грамматического.
Иной взгляд на алогизм связан с признанием его осознанным и целесообразным отступлением от "коммуникативной нормы логичности речи" (Лелёкина А. Н. Алогизм как принцип организации экспрессивных средств русского языка // Актуальные проблемы изучения языка и литературы // Материалы Всероссийской научной конференции, 25-27 ноября 2002 г., Абакан, 2002. С. 139; Пекарская И. В. Контаминация в контексте проблемы системности стилистических ресурсов русского языка. Часть II. Абакан, 2000. С. 139). В таком качестве алогизм выступает, по мнению И. В. Пекарской и А. Н. Лелёкиной, как "парадигматический принцип организации изобразительного средства (тропа, фигуры) или выразительного средства (текстовой фигуры)". Причем указывается, что "все типы фигур, традиционно называемых алогизмом <...> необходимо изучать в соотношения с законами логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания)" (Пекарская И. В. Указ. соч. С. 143).
Эта точка зрения близка нашему пониманию алогизма как принципа, лежащего в основе группы риторических приемов (в том числе тропов и фигур). Этот принцип состоит в намеренном и прагматически мотивированном отклонении от логических норм, под которыми понимаются основные законы формальной логики и вытекающие из них частные правила (например, правила деления понятий). Такое понимание алогизма коррелирует с определением алогизма в научной логике: "Алогизм (от греч, а - частица отрицания и logismos - разум, рассудок) - рассуждение, игнорирующее законы и правила логики" (Логический словарь. М., 1994. С. 15). Приемы, основанные на принципе алогизма, в нашей классификации названы паралогическими риторическими приемами (Сковородников А. П., Копнина Г. А. Указ. соч. С. 77- 79; Сковородников А. П. Указ. соч. С. 64-66).
Круг этих приемов в настоящее время еще не определен с достаточной четкостью, но он довольно обширен. К приемам, в организации которых участвует алогизм (иногда в сочетании с другими конструктивными принципами), могут быть отнесены амфиболия, антифразис, астеизм, гипаллага, диафора, зевгма, катахреза, оксюморон, плока, силлепсис, фрактата, перекурсия, некоторые разновидности антитезы.
Все эти и другие (в том числе и не имеющие общепринятых терминологических обозначений) приемы паралогического типа могут быть сгруппированы в подтипы в зависимости от того, на отклонении от какой логической нормы (логического закона) основан данный прием. Заметим, что, по нашим наблюдениям, наиболее частотны в художественной и публицистической речи паралогические приемы на базе отклонений от закона противоречия. Например:
1. Череповец, уездный город,
Над Ягоброй расположён.
И в нем, среди косматых бород,
Среди его лохматых жен,
Я прожил три зимы, в Реальном,
Всегда считавшемся опальным
За убиение царя,
Воспитанником заведенья,
Учась всему и ничему.
(И. Северянин)
2. Герой известен, и не нов предмет;
Тем лучше: устарело все, что ново!
(М. Лермонтов)
3. Это было в провинции, в страшной глуши.
Я имел для души Дантистку
С телом белее известки и мела,
А для тела - Модистку
С удивительно нежной душой.
(Саша Черный).
4. Но вот мы изгнаны из России в ту самую Европу, о которой в последние годы так страстно мечтали, и что же? Непонятно, и все-таки так: изгнанием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы (Ф. Степун).
5. И только тогда, когда мы чувствуем, что ничто не наше, можем мы сказать с апостолом: Мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем, потому что это Царствие Божие внутри нас... (Митрополит Антоний Сурожский)
6. Чтобы у нас болеть, надо иметь лошадиное здоровье
(Л. Измайлов)
7. Меж тем как век - невечный - мечется
И знаньями кичится век,
В неисчислимом человечестве
Большая редкость - Человек.
(И. Северянин)
На втором месте по частотности - паралогические приемы на базе отклонений от закона тождества. Например:
8. Лейтенант Петров отдал приказ рыть канаву от забора до обеда (Ю. Борев);
9. Умирающий больной.
Фиолетовые свиньи.
Стая галок над копной.
Блюдо раков.
Пьяный Ной.
Бюст молочницы Аксиньи,
И кобыла под сосной.
(Саша Черный
10. Жена и муза
Ничего не изменить
В прочном их союзе:
Он не может изменить
Ни жене, ни Музе.
Он к обеим постоянный
- Двоеженец окаянный!
(В. Васин)
11. Во рту горчит.
Луна торчит
Там, где положено по чину.
- Вам ветчину или дивчину?
- Спасибо, сыт.
(В. Тепляков)
На третьем месте по частотности - паралогические приемы на базе отклонений от закона достаточного основания. Например:
12. Он (незнакомец. - А. С.) думал, что жизнь дорожает; рабочему люду жить трудно; оттуда вонзается Петербург и проспектными стрелами и ватагою каменных великанов. <...> Все то незнакомец подумал; зажал он в кармане кулак; и он вспомнил, что падали листья (А. Белый)
13. Струятся струи.
Пиво. Понедельник.
Базар. Вокзал.
Базаров - нигилист.
Когда сойдутся шельма и отшельник
- Тушите звезды...
Грязен. Снова чист.
(В. Тепляков)
Приведенные нами примеры паралогических риторических приемов позволяют заметить следующее:
1. Не все приемы паралогического типа укладываются в существующие типологии и номенклатуры фигуральных средств (примеры 1-7).
2. Паралогические приемы полифункциональны. Так, например, они могут служить обнажению противоречий в поступках и мировосприятии людей (примеры 1, 2, 3); дискретности и непоследовательности их мышления (пример 12); выражать антиномичность социальных процессов или философских идей в виде парадоксов (примеры 4, 5, 7); быть средством создания разных видов комических контекстов (примеры 6, 8, 9, 10, 11, 13).
3. Паралогические приемы могут включаться в конвергенцию с приемами других типов, например, с гиперболой (пример 3), гиперболизированным эпитетом (пример 6), диафорой (пример 10), амфиболией (пример 11), метафорой и олицетворением (пример 12), корневым повтором и тавтологией (пример 7), корневым повтором и парономазией (пример 13).
4. Паралогические приемы могут быть стилистической основой малоформатных вторичных (по М. М. Бахтину) речевых жанров (примеры 6, 8, 10, 11, 13).
Следует также отметить, что когда точно не определено содержание понятия "логическая норма", возникает проблема разграничения паралогических приемов и приемов других типов. Так, например, Ю. Б. Борев к типу риторических фигур, образуемых на основе отклонений от логической нормы (которая им не определяется), относит, кроме наложения (употребления слова одновременно в прямом и переносном значениях) и антифразиса (что не вызывает возражений), такие фигуры (приемы), как гипербола, литота, обрыв речи, аллегория, олицетворение, эвфемизм, отрицание (характеристика явления "от обратного", путем сообщения, чем оно не является) (Борев Ю. Б. Эстетика. М., 1988. С. 250- 253). Прием отрицания Ю. Б. Борев иллюстрирует лермонтовскими строками:
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Такое расширение круга паралогических риторических приемов в аспекте сформулированного нами понимания логической нормы представляется неправомерным.
(с) Сковородников А.П. Алогизм как риторический приём // Русская речь. - 2004. - №1. - С.35-49.